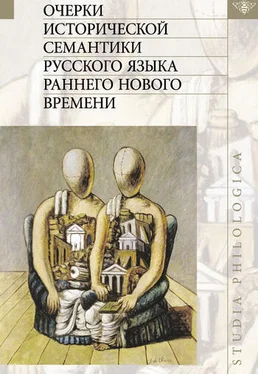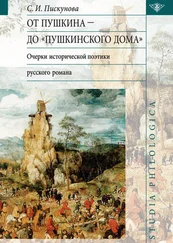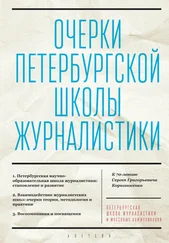Время церкви и время купцов обладают разной фактурой. На место сакрального времени священной истории «купцы и ремесленники ставят более точно измеряемое время, которое может быть использовано для профанных и мирских нужд, время часов. Великим переворотом во временном порядке, осуществленным городской общиной, стало повсеместное появление [городских] часов, поставленных лицом к лицу с церковными звонницами» [Le Goff 1977: 56; 1999: 58] [7] «À ce temps de l’Église, marchands et artisans substituent le temps plus exacte, ent mesuré, utilisable pour les besognes profanes et laïques, le temps des horloges. C’est la grande révolution du mouvement communal dans l’ordre du temps que ces horloges partout dressées face aux clochers des églises».
. Новое время со своим непременным атрибутом, тикающими часами, отмеривающими минуту за минутой жизни секулярного социума, рождается в рамках средневековой городской культуры. Именно в рамках этой культуры в XIV в. появляются работные часы – Werkglocken, по которым фиксируется начало, середина (обеденный перерыв) и конец рабочего дня. Как показал тот же Ле Гофф, впервые такие часы начинают создавать в городах с текстильной промышленностью; они регламентируют время работы ткачей, их производительность труда и получаемую ими заработную плату [Le Goff 1977: 69–72; 1999: 69–73]. Собственником времени оказывается при этом работодатель, который и сопрягает время и деньги и тем самым распространяет на время парадигму калькуляции, счетности, определяющую для культуры нового времени, для modernity.
Понятно, что это исчисляемое городское (или, как можно сказать, внося телеологический момент, «буржуазное») время лишь постепенно становится доминирующим. В Средние века городское время сосуществует с традиционным аграрным временем (тем самым, которое Козеллек называет натуральным) и с сакральным временем церкви. Считаемое время – это, безусловно, линейное время, и в силу этого оно противопоставлено циклическому времени традиционной аграрной культуры, которое основано на природных циклах времен года и дня и ночи [8]. Экспансия исчисляемого времени представляет собой одну из составляющих утверждения счетной парадигмы как основы городской культуры, развивающейся в культуру нового времени. Действительно, городская культура основана на счете, в городе все считают, тогда как в деревне обходятся без счета. В деревне известно, что вот этой бочки огурцов хватает на ползимы, и нет никакой нужды огурцы взвешивать. В городе огурцами торгуют и поэтому их вешают – пудами, килограммами или фунтами. Модернизация – это и есть прогресс счетности. Современная цивилизация считает все, что ни придется: среднюю продолжительность жизни, интеллектуальные способности, продуктивность интеллектуальных усилий, объемы информации и т. д. и т. п. На этой счетности основаны многочисленные институции современного общества, без которых его жизнь трудно представить, такие, например, как пенсионное обеспечение, страхование жизни, планирование семьи, социальные программы и многое другое (ср. [Koselleck 2004: 18]).
Основными элементами счета являются время и деньги. Именно они образуют костяк счетной парадигмы, и именно их счет лежит в основе модернизации и рационализации нового времени. Известная пословица «время – деньги» просто сопрягает два фундаментальных параметра новой культурной парадигмы, поясняя тем самым экзистенциальную глубину бухгалтерского учета. Эта экзистенциальная глубина обусловливает экспансию новой парадигмы времени в те сферы, которые изначально счетом не занимались. Экспансия связана с конкуренцией. В отличие от сакрального времени церкви, которое принадлежит Богу, и натурального времени аграрного хозяйства, являющего элементом космического порядка и тем самым также принадлежащего Богу, время часов апроприируется собственником измерительного механизма. В силу этого начинается спор о том, кто должен мерить время. Этим спором занята и церковь, раздающая индульгенции и этим способом измеряющая в дукатах и империалах время спасения (см. ниже), и государство, регламентирующее деятельность подданных, и городское общество. Символично, например, что в 1370 г. Карл V, большой любитель всяческих механических устройств, распоряжается, чтобы все городские часы Парижа ставились по часам королевского дворца на l’ile de la Cité [Le Goff 1977: 76; 1999: 76, 416]; как пишет Ле Гофф, «новое время становится таким образом временем государства» [Le Goff 1999: 76]. В этой борьбе время городского общества оказывается в конечном итоге наиболее конкурентоспособным, поскольку оно делает ставку на интериоризацию временной бухгалтерии (об интериоризации [самопринуждении и самоконтроле] как цивилизационном механизме см. [Элиас II: 237–341]). Эта интериоризация представляет собою важнейшую часть той «протестантской» или буржуазной этики, с которой веберианская социология связывает расцвет капитализма.
Читать дальше