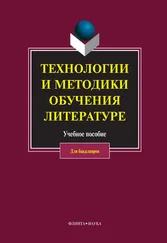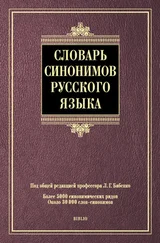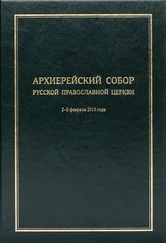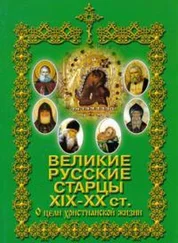При этом не следует забывать, что в подчеркнутом «аскетизме» нигилистов 1860‐х годов и последующих десятилетий выступает и своеобразная эстетизация , на что указала К. Верховен (C. Verhoeven), опираясь на исследования И. А. Паперно 41 41 Verhoeven C. The Odd Man Karakozov: Imperial Russia, Modernity, and the Birth of Terrorism. Ithaca; London: Cornell University Press. Р. 114–120; Paperno I. Chernyshevsky and the Age of Realism: A Study in the Semiotics of Behavior. Stanford: Stanford University Press, 1988.
. Разумеется, что сегодня представляется невозможным судить об аутентичности убеждений подвижников народовольческих идей; мы можем только отметить, что в соответствующих кругах – или, скорее, в исторических свидетельствах об этих кругах – и в сложившемся образе «интеллигента-разночинца» или «нигилиста» преобладали, так сказать, внешние маркеры аскетического поведения. Возможные различия между внешними манифестациями и внутренними убеждениями аскетических подвижников выпадают из нашего методологического поля зрения. Это, конечно, является банальным утверждением, если бы подозрение о несоответствии внешнего и внутреннего планов не ставило под сомнение аксиологический фундамент самой аскетической установки с ее пренебрежением по отношению к внешней стороне человеческого существования. «Аскетический стиль», образовавшийся в последнией трети XIX века, – не что иное, как особый склад поведения и особый этос (отражающийся в одежде, в интеллектуальных и художественных предпочтениях и так далее). Как любая мода, он легко узнаваем и ему легко подражать; он поддается типизации, что способствует его «тираживанию» в художественных произведениях и социальной жизни.
Аскетические практики не только связаны с питанием и с одеждой, но касаются всей телесной стороны человеческой жизни, включая половые отношения. У Розанова мы находим интересное сочетание размышлений о роли сексуального измерения человеческой жизни с аскетическим этосом современных ему революционеров – социал-демократов. Разбирая роман Толстого «Воскресение» и нащупывая в изображении одной из товарок ссыльной Катюши Масловой, политической заключенной из генеральской семьи, подспудные мотивы лесбиянства, Розанов подчеркивает своеобразное сочетание «монастырского» элемента (красота, но «совершенное отсутствие кокетства», невнимание к внешности), с одной стороны, и желания «обвить весь мир чем-то „кружевным“, роскошью, негою…» – с другой. Он приходит к выводу, что «нашу цивилизацию» невозможно «постигнуть без обращения внимания на вечную борьбу „полнобедренной“ Афродиты (и „Песни Песней“) с худощавою Ашерою <���…>, которой „ничего не надо“, кроме кельи и ломтя хлеба, кроме „селедки“ наших социал-демократов» 42 42 Розанов В. Муже-девы и их учение // Розанов В. Люди лунного света. Метафизика христианства. СПб.: Тип. Т-ва А. С. Суворина «Новое Время», 1913. С. 108–109.
. «Селедка» социал-демократов становится символом бесплодия их идей и политических стратегий. Дальше читаем: «См. у Степняка, в „Подпольной России“: вечно едят, на „конспиративных пирушках“, свою „селедку“, не догадываясь, до чего это показует их связь и с Ганимедом-Лесбосом, и с Ашерою-инокинею» 43 43 Там же. С. 109.
. На самом же деле подобных аскетических «пирушек» в текстах С. М. Степняка-Кравчинского не так много. По-видимому, Розанов имеет в виду следующее место в книге «Подпольная Россия»:
Комната была полна народу. На простом деревянном столе стояло несколько бутылок пива и две тарелки: одна – с ветчиной, другая – с копченой рыбой. Значит, я попал кстати. Это была одна из маленьких пирушек, которые «нигилисты» позволяют себе изредка в виде отдыха от нервного напряжения, в котором они принуждены жить постоянно 44 44 Степняк С. Подпольная Россия. Лондон: Изд‐во фонда Вольной Русской Прессы, 1893. С. 46.
.
Кажется, что на фоне всеобщего стереотипа революционного аскетизма эта сцена в памяти Розанова размножилась и превратилась в дурную бесконечность «вечного» поедания копченой рыбы на подпольных «пирушках». Аскеза и изобилие здесь оксюморонно переплетаются; скудная и однообразная пища оборачивается «пиром», а поверхностно аскетическому образу жизни подпольных революционеров сопутствует скрытое тяготение к сексуальному разврату и к эксцессам – причем настолько тайное, что даже сам Толстой, как полагает Розанов, не подозревал о присутствии этого мотива в своем романе 45 45 Розанов В. Муже-девы и их учение. С. 107.
.
Этос бескорыстной самоотверженной работы для общего блага становится образцом, по которому в советскую эпоху моделируется облик партийного работника – большевика. «Аскетическое» отношение к телесности, к окружающему миру остается преобладающей моделью в первые пореволюционные годы 46 46 Ср.: Hoffman D. L. Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917–1941. Ithaca; London: Cornell University Press, 2003. Р. 119.
. Пока буржуй ест ананасы и жует рябчиков 47 47 Маяковский В. В. «Ешь ананасы, рябчиков жуй…» <1917> // Маяковский В. В. Полн. собр. произведений: В 20 т. Т. 1: Стихотворения 1912–1923 / Ред. тома В. Н. Терехина. М.: Наука, 2013. С. 114.
, большевик, как истинный «монах революции» (см. выше), довольствуется самой простой пищей и работает над возрастанием общего блага, что, разумеется, соотносится с реальной ситуацией недостатка продовольствия в первые пореволюционные годы. Но вскоре ситуация меняется. В сталинское время появляются картины богатства и изобилия советского хозяйства. В повести А. П. Платонова «Джан» девочка Ксеня, после того как главный герой Чагатаев перед отъездом в туркменскую пустыню купил ей ряд не совсем жизненно необходимых вещей («дорогие духи, замшевая сумка, какое-то пестрое покрывало»), самоуверенно заявляет: «Я вам тоже скоро буду давать подарки. Скоро наступит богатство!» 48 48 Платонов А. П. Джан // Платонов А. П. Счастливая Москва: Роман, повесть, рассказы / Сост. Н. В. Корниенко. М.: Время, 2011. С. 125–126.
Читать дальше