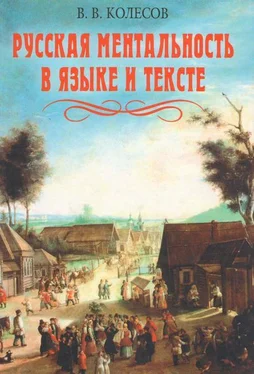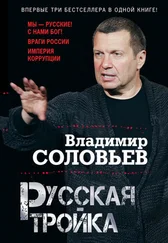Застенчивое уклонение от метафоры тоже определяется основной установкой словаря на метонимические переносные значения в слове; категория одушевленности — остаток древнего языческого анимизма — также препятствует созданию оригинальной авторской метафоры, — разумеется, такой метафоры, которая оказалась бы понятной другим носителям языка. Постмодернистские изыски неприемлемы для русского сознания.
Вежливая уклончивость проявляется и в том, что славянский императив не есть, собственно, повелительное наклонение, он восходит к древней форме оптатива — пожелательного наклонения.
Отношение к другому проявляется не в наглом приказе или хозяйском повелении, но в пожелании, что высказываемое будет принято к сведению. В известном смысле оживлением этой формы становится в наши дни широкое распространение формул типа хотелось бы, чтобы...; некоторые, вот, говорят, что... и т. п.
Совсем наоборот, в отношении к себе самому русский человек излишне категоричен, свое собственное мнение он признает за истину в последней инстанции, что всегда — с XVI в. — поражало иностранных наблюдателей. Иностранец обязательно оговорится: мне кажется, что...; я думаю, что...; кажется, будто... и т. п., в то время как русский, пользуясь формами родного языка, строит свое высказывание без помощи всякого рода уклончивых шифтеров, поскольку категоричность личной точки зрения не требует, на его взгляд, никаких антимоний: а я ведь говорил!
Категоричность самоутверждения и «бытовой нигилизм» находят себе поддержку в способности русского языка строить отрицание таким образом, что каждое отдельное слово высказывания отрицается само по себе: никто никогда ничего не видел; никто ничего никому не должен. Англичанин или француз употребит только одно отрицание — скорее всего при объекте, ради которого, собственно, и делается подобное заявление.
Плеоназм как особенность русской речи — весьма серьезная проблема и в наши дни. Он проявляется в самом различном виде, засоряя речь ненужными определениями, но вместе с тем и помогая усилить высказывание эмоционально: основная установка на то, чтобы убедить, а не доказать, поскольку «очевидность только тогда не требует доказательств, когда она очевидна» [Трубецкой 1995: 79].
Диалог
Все указанные особенности русского языка, формирующие ментальность и обыденное сознание русского человека, определяются установкой на характер общения: во всех случаях преобладает, будучи типичным проявлением речемысли, не монолог-размышление (который воспринимается как признак помешанности или юродивости), а активно протекающий диалог, в котором и рождается обоюдно приемлемая мысль. Эмоция убеждения важнее логики доказательства, поскольку назначение подобного диалога вовсе не в передаче информации: не коммуникативный аспект речи кажется существенно важным в диалоге, а речемыслительный, формирующий это высказывание. Мысль соборно рождается в думе, с той лишь разницей, что не индивидуальная мысль направлена словом, а что «думу строит слово»: по старому различию смысла у слов дума и мысль мыслит каждый сам по себе, думу же думают вместе, и дума — важнее мысли, поскольку как законченное воплощение мысли дума освящена признанием Другого. Своя правда удостоверяется правдой собеседника, и с этого момента становится истиной для всех.
Речь идет именно о диалоге как основной форме мышления. В исторической перспективе третий всегда лишний. Местоимение третьего лица он, она, оно, они формируется довольно поздно на основе указательного в значении "тот, другой" — который находится вдали, вне диалога. До сих пор в выражении: Третьим будешь? — звучит тоска напарника, который в силу необходимости должен прибегать к содействию постороннего, третьего. Глагольные формы в настоящем и прошедшем времени, как много их ни было, долгое время не различали второго и третьего лица, потому что в конкретном диалоге третий не принимал участия, а высказываться об отсутствующем не было принято до XVII в.
Собирательная множественность объектов (нерасчлененная множественность) особенно хорошо представлена в отношении к людям, к человеческому коллективу, который ценностно воспринимается в своей цельности: народ, толпа, полк, люди... Многочисленные формы множественного числа сохраняют исходный смысл собирательности или нерасчлененной множественности, что характерно для имен мужского рода, ср.: браты, братья, братия, также листы — листья, города, волоса́—во́лосы и т. п.
Читать дальше