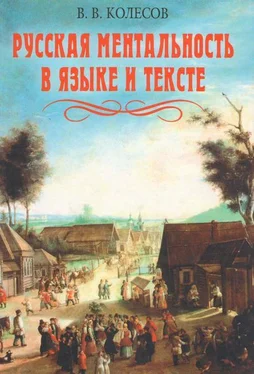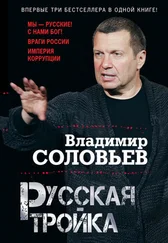К ментальности ни «тип», ни «идеал», ни самые благословенные «черты» (бывают же и такие) никакого отношения не имеют, и именно потому, что глубинно связаны с языковым ментальным пространством национального сознания, проистекают из него, иногда даже — неожиданно — противореча общепризнанным и осмеянным в анекдотах «чертам» того или иного народа. Но потому-то и описание ментальности имеет лишь косвенное отношение к биологии, психологии, психопатологии и прочим изыскам современной интеллигентской мысли. Все они — внешние контуры того явления, которое становится темой нашего изложения.
Отсутствие ментальности
Но коль скоро в России не было ощущения собственной ментальности, может быть не существовало и самой ментальности? Сейчас я приведу цитату из книги известного славянофила, которая объяснит многие расхождения в толкованиях национального характера и мироощущения.
Возражая западникам 1860-х гг., славянофил Ю. Ф. Самарин заметил: «Мы вправе сказать, что доселе господствует у нас отрицательное воззрение на русскую жизнь; иными словами, ее определяют не столько по тем данным, которые в ней есть, сколько по тем, которых в ней нет и которым, по субъективному убеждению изучающих ее, следовало бы непременно в ней быть», и взгляд такой «необходимо идет от подражательного направления мысли к народному» [Самарин 1996: 501]. Например, один говорит о малом значении личности у нас, а другой — о недостатке «союзного духа и господстве ничем не сдержанной личности»: «В сущности, отрицательность выводов есть выражение неспособности угадать причину своеобразности народной жизни... которой позднее, в эпоху зрелости, предназначено развиться в стройную систему понятий и найти для себя идеальные образцы» [Там же: 507].
Вот такое-то рассмотрение русского обязательно на фоне западноевропейского и становится главной методологической ошибкой многих современных мыслителей. Она присуща людям пристрастным, т. е., по русскому разумению, весьма ущербным, не способным адекватно оценить соотношение между идеей и миром. Но, с другой стороны, это и понятно: сравнивая проявления русского мироощущения с западноевропейским менталитетом, хорошо известным и описанным, всегда придешь к выводу, что подобного менталитета у нас нет, а имеется его эквивалент — ментальность, т. е. менталитет, повенчанный с духовностью.
Все упреки в отсутствии того-этого основаны на подмене понятий ментального (рассудочного) и духовного (идеального), а также на присущей европейскому научному сознанию номиналистической точке зрения: наличие термина предполагает присутствие соответствующей термину идеи, явления. Сказано: «русский менталитет» — и должен быть русский менталитет! А уж что такое менталитет, мы хорошо знаем: у русских его нет? — никуда не годится. Отсталый народ. Вот и вся логика.
Между тем о духовности тоже написано много. Это традиционная тема русской философии, которая (устами Николая Бердяева) призывала развивать присущую русскому характеру душевность до высших степеней ее проявления — до духовности. Современные разговоры о менталитете — это попытка рационализмом ментальности заменить духовность. Духовность онтологична, она предсуществует в русском характере, воспитанная веками, тогда как менталитет предстает в качестве саморефлексии о духовности; ментальность гносеологична. А русское философское миросозерцание именно онтологично. Оно признает реальность как вещного мира, так и вечной идеи. Целостность цельного, понятое как целое, есть основная установка русской ментальности, не допускающая разложения сущностей на дробные доли анализа. Целое не является суммой аналитически явленных своих частей, как полагает ratio.
Контуры духовности столь же реальны, как и границы ментальности, но не для всех они одинаковы и равноценны. В. Н. Сагатовский [1994: 20—21] обобщил различные подходы к пониманию духовной атмосферы как формы «построения души». Безблагодатный структурно-информационный подход: самой духовной атмосферы нет, но она явлена в интерпретациях ее и в ее оценках. Все говорят о душевности и духовности, но в реальности забыли, что это значит. Второй подход — информационно-энергетический, также свойственный нашему времени: утверждают, что жизнь духа излучает особую энергию, которую называют по-разному (Вернадский — ноосферой, Гумилев — пассионарностью, Флоренский — пневмосферой, Лихачев — концептосферой и т. п.). Это как бы призыв вернуться к деятельному проявлению ментальности как миросозерцанию, утраченному в результате подавления информационной агрессией. Третий подход в понимании духовности — объективно-идеалистический: он предполагает энергийность божественной благодати как невидимой неуловимой силы, которая освящает всё сущее (Фаворский; свет — у Франка и Лосского). Это уже прямой акт отчаяния — апелляция к Богу, когда собственных сил для реализации ментальности уже не хватает. «Анатомию души» народа можно постичь не только в его «образе жизни», но и в его идеалах.
Читать дальше