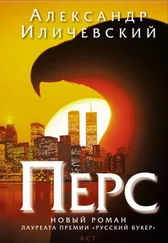«… Я б вас заставил плакать: от благодати чересчур меж нами.
«От благодати плакать, не от горя, ─ так говорит Певец прекраснейшей из песен;
«И от того незамутнённого сердечного волненья, которого источник мне неведом,
«Как от того мгновенья чистого у моря, когда вот-вот возникнет бриз вечерний…»
Так говорил человек моря, взяв слово человека моря,
Так славословил, славословя свою любовь и вожделенье к морю
И со всех концов лиющийся поток ─ по направленью к морю ─ из ручейков незримых наслажденья…
«Это ─ история, которую я расскажу, и это ─ история, которую будут слушать;
«Это ─ история, которую я расскажу так, как и подобает ей быть рассказанной,
«И от такой благодати будет она рассказана, что все непременно возрадуются:
«Да, история, которую хотят услышать, ещё не думая о смерти,
«И, в раскрывшейся свежести своей, пусть такой-то и войдёт она в сердце человека без памяти, ─
«Нежданной милостью, ─ словно вечерний бриз, возникший там, где река сливается с морем, и где дрожат в сумерках береговые огоньки.
«Из тех же, кто её услышит, под необъятным сидя деревом печали,
«Немного будет таковых, кто с мест своих не встанет и вместе с нами, улыбаясь,
не отправится в густые папоротники детства, раздвигая смело молодые листья смерти.»
Поэзия, чтобы идти рука об руку с речитативом во славу Моря,
Поэзия, чтобы песне протягивать руку в её величавом движенье по амфитеатру Моря.
Словно шествие вкруг алтаря и притяжение хора к строфы повторениям мерным.
И это есть песнь моря, ─ им доныне не певшаяся, ─ и это Море в нас самих её пропоёт:
Море, в нас самих несомое, будет петь пока хватит дыханья и до завершающего вздоха.
Море, в нас, разносит по миру свои шелковистые рокоты и всю свою безграничную
свежесть, нежданно раскрывшуюся.
Поэзия, чтобы сбить жар стражи бессонной [нашего] морского перипла.
Поэзия, чтобы охотнее стражилось нам в услаждении морем.
И это грёза от моря ─ доныне им не грезившаяся, и это Море в нас самих будет ею грезить:
Море, выткано в нас до самых непролазных своих зарослей бездн кромешных, Море в нас самих ткёт равновеликие свои часы света и пути мрака ─
Море ─ сама вольность, само рожденье и само исцеленье! Море! В своих приливах, В изливах своих пузырей и млека своего настоявшейся мудрости, о! в священном кипенье своих гласных ─ святые девы! святые девы! ─
Море, вскипая, само всё испенит, словно Сибилла, расцветшая на седале своём железном.
Тако хвалимы, да пребудете Вы, о, Море, хвалением увенчаны без хулы.
Тако званы, да пребудете Вы и гостителем, о заслугах коего должно молчать.
И не о Море, собственно, пойдёт речь, но о царенье его в сердце человеческом:
Поелику добро есть, ходатайствуя ко Владыке, слоновую кость иль нефрит положить меж ликом сюзерена и славословьем слуги.
А я, склоняясь в Вашу честь в нижайшем, но без низости, поклоне, изойду, балансируя, реверансом;
И снова дымка наслажденья окутает разум преданного слуги,
И снова радость словообретенья вызовет к жизни грацию улыбки…
И таковым привечанием будете Вы привечаемы, о, Море, каковое надолго останется в памяти, словно отдохновение сердца.
А ведь я давненько приохотился к этой поэме, каждый день подмешивая к своей болтовне всю эту далёкую и необъятную слиянность слепящего блеска морского ─ так на кромке леса меж листьев, словно чёрным покрытых лаком, вдруг сверкнёт драгоценная жила небесной лазури: серебро чешуи в сетях трепещущей рыбины, которую взяли за жабры.
И кто бы меня, ─ кому улыбка и врождённая учтивость служат защитой, ─ застиг, таким образом, врасплох, раскрыв тайну моего замысла? ─ хоть я и говорю там и сям на этом неожиданно обретённом языке среди людей близких мне по крови ─ возможно (это было) на углу городского сада, или же вблизи решётчатых оград, ─ тонкой работы, с позолотою, ─ какой-нибудь канцелярии, ─ стóя, быть может, вполоборота и взгляд устремив вдаль ─ туда, где между моих фраз поёт, ─ над Управлением капитана порта, ─ свою песенку некая птичка.
Ибо давненько приохотился я к этой поэме, и словно бы улыбка во мне, ─ хранящая моё к ней неистощимое предугожденье, ─ растекалась млеком мадрепоровым; в своих приливах, мирно, словно по следам полуночи, вздымая медлительно высокие воды грёзы, в то время как пульсации распахнутого настежь простора легонько дрожать заставляют канаты и тросы.
И как это пришло нам в голову: начать сию поэму ─ вот о чём следовало бы сказать. Но разве (для нас) недостаточно (просто) находить в этом удовольствие? И всё же, о, боги! следовало мне взяться за неё со всею серьёзностью, покуда она сама не взялась за меня… Смотри-ка, дитя, ─ там, где улица делает поворот, ─ как Дщери Галлея готовы вернуться на круги своя (прелестные девы небесные в одеяньях Весталок, почтившие нас своим визитом) влекомые в ночи на стеклянном крючке ─ там, где кривая эллипса делает поворот.
Далёкая морганатическая Супруга и слиянность тайнобрачная!
…Свадебная песнь, о, Море, для Вас прозвучит так: « Моя последняя песня! Та, что будет спета человеком моря…». И если не эта песня, я вас спрашиваю, то что (тогда) послужит свидетельством в пользу Моря ─ Моря без стел и без портиков, без Аликампа и без Пропилей; Моря без изваянных в камне консулов на своих циркулярных террасах и без (диковинных) зверей, застывших возле насыпных дорог с навьюченными для равновесия крыльями?
Итак, поскольку я взял на себя ответственность за написанное, буду относиться к нему с уважением, подобно тому, кто, оказавшись там, где кладётся основание некоего совершаемого по обету великого дела, взялся изложить на бумаге и снабдить комментарием всё происходящее, о чём его и просила Ассамблея Донаторов, так как лишь ему сие предначертано свыше, и никому неведомо, где и каким образом он принялся за работу: вам, пожалуй, скажут, что это было в квартале неподалёку от бойни, или же там, где живут литейщики, ─ в часы между звонами колоколов, призывающих гасить свет и армейской барабанной дробью на заре, ─ во времена смуты народной…
А поутру уже Море само ему улыбнётся, сверкая церемониально и по-новому над карнизами. И вот в странице (им написанной), словно в зеркале, смутно забрезжит Чужестранка… Ибо давненько приохотился он к этой поэме, будучи призван свыше…
И столько было (неистощимой) сладости в проявленном им, как-то вечером, предугожденьи; и столько нетерпенья в том, как он отдался этому. И улыбка также была таковой, что он сам растворился в (необъятной этой) слиянности… « Моя последняя песнь! Моя последняя песнь!.. Та, что будет спета человеком моря…»
Читать дальше





![Жюль Верн - Наступление моря [Нашествие моря]](/books/277877/zhyul-vern-nastuplenie-morya-nashestvie-morya-thumb.webp)