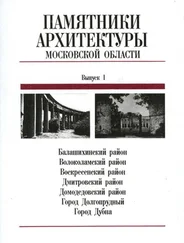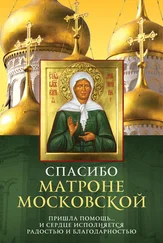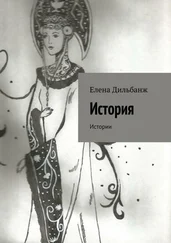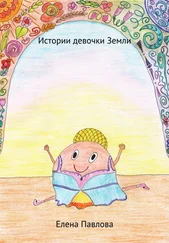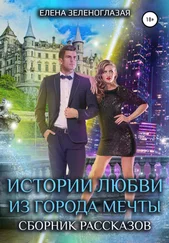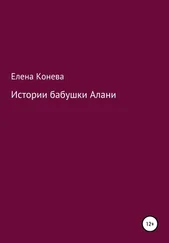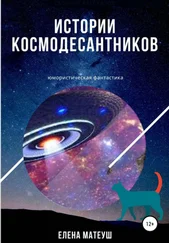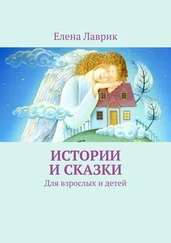Очевидно, это не случайное явление. На него в свое время указывал Н. М. Каринский, исследуя, правда, псковские, а не московские памятники [23] См. Н. М. Каринский. Язык Пскова и его области в XV в.
Н. М. Каринский оставил эту особенность обозначения безударных гласных, выступающих в соответствии с фонемами [а] и [о], без объяснения. Между тем можно предполагать, что там, где указанное различие в обозначении заменителей фонем [а] и [о] в первом предударном и в заударных слогах не только проступает на письме, но и имеет определенно выраженный характер, оно связано с особенностями произношения безударных гласных в зависимости от их места по отношению к ударению [24] См. Г. А. Хабургаев. Заметки по исторической фонетике южновеликорусского наречия. — «Учен. зап. МОИП», т. 163. Русский язык, вып. 12. М., 1966, стр. 290 и сл.
. Написания, которые мы встречаем в московских грамотах первой половины XVI в. при обозначении соответствий фонемам [а] и [о] в безударном положении, будут вполне понятны и объяснимы, если допустить, что в первом предударном слоге эти фонемы совпали в звуке, близком к [а], а в заударных слогах, исключая конечный открытый, — в звуке [ъ].
Если заударный слог был конечным и открытым, то в нем фонемы [а] и [о] могли совпадать, вероятно, при определенных интонационных условиях в гласном, близком к [а]. Основание для подобного предположения дают написания с буквой а вместо о , отмеченные там, где дело касается конечного открытого слога, и почти не встречающиеся при обозначении [а] и [о] в других заударных слогах.
Хотя у нас слишком мало материала, чтобы судить о качестве гласного, в котором совпали фонемы [а] и [о] в предударных слогах, кроме первого предударного (всего 2 случая: один с буквой а , другой — с ы ), опираясь на современные диалектные данные, можно думать, что по своему качеству он совпадал со звуком, произносившимся на месте гласных неверхнего подъема в заударных слогах, и определять его как [ъ].
Таким образом, тот тип живого языка, носителем которого были московские писцы и который отразился в написанных ими документах, должен быть определен как акающий. Вероятнее всего, аканье здесь было недиссимилятивным, так как материал, извлеченный из московских грамот первой половины XVI в., не дает нам указаний на зависимость качества гласного, в котором совпали фонемы [а] и [о] в первом предударном слоге, от качества ударного гласного. У нас есть, правда, случай вор ы паевская (при наличии ударного [а] в первом предударном слоге находим букву ы ), но в другом случае — сысонская — буква ы встретилась при ударном [о]. Обычно же при наличии ударного [а] в первом пред ударном слоге находим букву а (п алянѣ, дост аканы, т аваркова, л аманова, зык апашына, яр аславль) или о (ск озали). Делать заключение о диссимилятивном аканье на основании одного только случая вор ы паевская , к тому же слова с неясной этимологией, не представляется возможным. К этому следует добавить, что система общеупотребительного письма, способная дать в случаях отдельных отступлений от орфографических норм указание на неразличение тех или иных фонем, не в состоянии передать факты произношения в соответствии с тем или иным конкретным типом предударного вокализма. Если такая возможность существует, то лишь при условии очень малограмотных записей.
Рассмотренными выше случаями не ограничивается мена букв а и о в московских грамотах первой половины XVI в. Исследованные грамоты дают значительное количество примеров, в которых смешение букв а и о наблюдается в топонимике. Необходимость выделить эту категорию слов особо диктуется тем, что большинство таких имен, знающих смешение а и о , неясного, а может быть нерусского, неславянского происхождения. Кроме того, у нас нет почти никаких данных для определения места ударения в подобных словах. Здесь можно говорить лишь о том, что тот или иной слог являлся, по-видимому, безударным.
Смешение а и о обнаружено в следующих топонимах: г алаче в :ское селище (17) — о[т] г олаче в ского; о[т] иноб ажа (14; 15), реки иноб ажы (16), рекою иноб а ж [ь]ю (16), в иноб а ж ской волости — в иноб о ж ской волости (16), иноб о ж ские волости (16), иноб о ж ские д[е]р[е] в ни (16); в р а до млю (17), р а до млею (17), р адомльские (17), в волости зар а до млъ (17) — р о до млю (17); р асто в цо м (14), р асто в ца (14; 15), р астовцу (16), р асто в цо в ско г [о] (17), — р остови т цкой волости (18); харл анова (17), к харл анову (18), харл аново (17) — харл онову (17); чаг адае в ског[о] (7734), чаг адае в ское (7734), ча:г адаево (7736) [25] Обращаем внимание на употребление а и в начальном слоге этих слов.
— чег одае в ского (7735).
Читать дальше