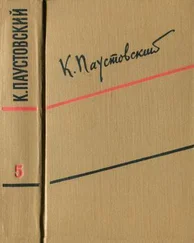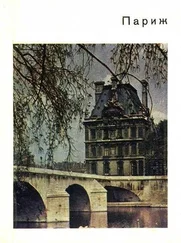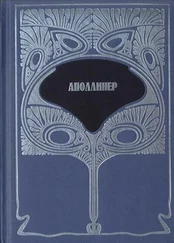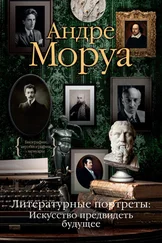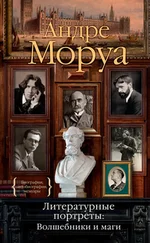Поэтому уподоблять автора «Характеров» Жюльену Сорелю можно лишь с оговоркой. Лабрюйер – тот же Жюльен Сорель, если бы последний, до гробовой доски оставаясь на службе у маркиза де ла Моля, хладнокровно примечал и описывал пороки того мирка, куда его забросила судьба, подчиняясь тем не менее царящим там законам. Редкие свидетельства, оставленные нам теми, кто знал Лабрюйера, рисуют его веселым и счастливым человеком. Позволительно даже спросить себя, не был ли и сам автор повинен в кое-каких простительных грешках из числа тех, в которых он уличает людей своего круга. Ведь творения моралистов, равно как и романистов, как правило, отчасти исповедальны, и любой автор лучше всего описывает те чувства, которые испытал сам. Марсель Пруст не потому великолепно обличает снобизм, опустошающий душу, что в момент писания воображал себя снобом, а потому, что он им был. В письмах Лабрюйера можно различить мелькающие порой самодовольные, покровительственные интонации, позволяющие догадаться, что он горд дружеским расположением Конде и господина главного придворного врача. Да и в предисловии к речи, которую он произнес в Академии, полемика язвительна сверх меры, а некоторые удары метят малость ниже пояса.
Нет сомнения, что он наперекор своему философическому настрою страдал от неодобрительных отзывов о его произведении, они рождали в нем неприязненное отталкивание: «Едва человек начинает приобретать имя, как на него сразу ополчаются все; даже так называемые друзья не желают мириться с тем, что достоинства его получают признание, а сам он теперь становится известен и как бы причастен к той славе, которую они уже давно приобрели». Что ж, похоже, что после триумфа «Характеров» Буало и впрямь стал любить их автора несколько меньше, чем до того. При дворе Лабрюйер наблюдает примеры невероятного людского малодушия: «Нет ничего хорошего в обиженном человеке: добродетель, достоинство – все у него в пренебрежении, или плохо выражено, или погрязло в пороках». Разочаровавшись подобным образом, он думает, что разумный человек должен уклоняться от всяких дел: он не ставит искусного политика выше того, кто не стремится стать таковым, и все больше укрепляется в мысли, что мир вообще не располагает к тому, чтобы им заниматься. Чего можно ждать от мира? «Стоит ли возмущаться тем, что люди черствы, неблагодарны, несправедливы, надменны, себялюбивы и равнодушны к ближнему? Такими они родились, такова их природа, и не мириться с этим – все равно что негодовать, зачем камень падает, а пламя тянется вверх». Горькая мудрость.
Как видим, перед нами человек достаточно независимо мыслящий, проницательный, зоркий, суровый. И все же многие изображенные им характеры отдают сведением счетов. Так, он находит некоего Теодекта совершенно несносным: «Наконец я не выдерживаю и ухожу – у меня нет больше сил терпеть Теодекта и тех, кто его терпит». Уйти-то он уходит, но, возвратившись домой, строчит еще десятка два мстительных строк о Теодекте. Таков писательский способ одерживать верх над противником. На склоне дней в Лабрюйере стали проявляться причуды литератора: «Не говорите мне о слоге, чернилах, бумаге, пере, типографщике и печатном станке! Пусть никто не дерзает уверять меня: „Ты так хорошо пишешь, Антисфен! Что же ты медлишь? Неужели мы не дождемся от тебя какого-нибудь инфолио? Рассмотри все добродетели и все пороки в последовательном и методичном труде, которому не было бы конца“ (следовало бы еще добавить: „и который никто не станет читать“). Нет, я навсегда отрекаюсь от того, что называлось, называется и будет называться книгой… Вот уже двадцать лет обо мне толкуют на площадях, но разве мои яства стали изысканнее, разве я теплее одет, разве холод не проникает ко мне в комнату, разве я сплю на пуховой перине? Какая нелепость, глупость, безумие, – не унимается Антисфен, – повесить над входом в свое жилище надпись: „Здесь живет писатель или философ“».
Заметим, что в разглагольствованиях воображаемого Антисфена есть фраза, которая наверняка приводила в уныние самого Лабрюйера: «Рассмотрите в последовательном и методичном труде…» Франция по традиции еще сохраняла вкус к трактатам, к четко продуманной композиции, к велеречивым переборам доводов в духе Цицерона. «Мысли» Паскаля напрасно представляются нам отрывочными и небрежными, они просто являют собой фрагмент неоконченного труда. «Максимы» Ларошфуко крепко сбиты, их связь надежно обеспечивает посыл о себялюбии. Сам Монтень, сколько бы ни забавлялся отступлениями, следует намеченному плану весьма четко. Лабрюйер первым из великих французских писателей умышленно склоняется к «импрессионизму».
Читать дальше