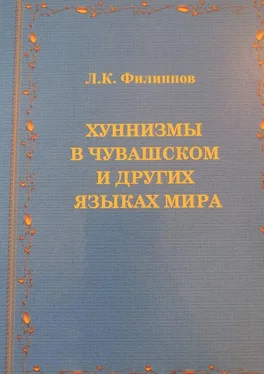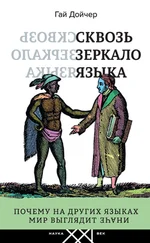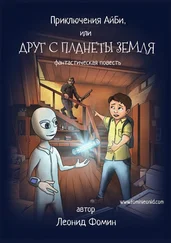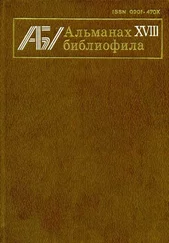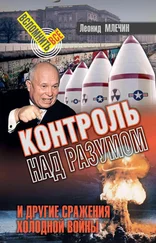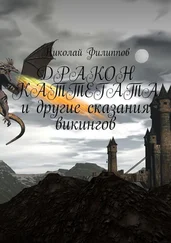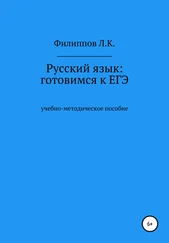Удовлетворительного объяснения в науке не получила и единственная, сохранившаяся до нашего времени хуннская фраза ( гуннский стишок – И. Бенцинг, двустишие сюнну – Э. Дж. Пуллиблэнк, гуннское двустишие – Г. Дёрфер). Она содержится в хронике «Цзинь-шу», предположительно относится к 310 г. н.э. [Дыбо, 2007, с. 75—76], записана «фонетически трудно реконструируемым китайским письмом» [Дёрфер, 1986, вып. 1, с. 73], состоит из четырёх слов [Пуллиблэнк, 1986, с. 61], в них в общей сложности десять слогов [Дёрфер, 1986, с. 72]. Приведём две её европейские транскрипции: 1) sieou-tchi ti-li-kang pou-kou khiu-tho-tang и 2) «сю чжи тилэй гян, Пугу тугоудан» . Автором первой из них является А. Ремюза [цит. по: Иностранцев, 1926, с. 96], второй – В. П. Васильев [Васильев, 1872, с. 115].
Объяснить хуннскую фразу IV в. н.э. пытались многие отечественные и зарубежные исследователи. (Подробное описание всех предлагавшихся её толкований см. [Шервашидзе, 1986].) Так, например, Н. А. Аристов, полагая, что хунны говорили на древнетюркском языке, подгонял её смысл под содержание китайского перевода, в результате исказил саму фразу; она у него приняла такой вид: Сÿcu cуläгäн, Пугу тутgан [Аристов, 1896, с. 292]. Между прочим, В. П. Васильев несколько раньше, хотя и признал, что хуннская фраза имеет вид тюркский, отметил, однако, что никому из тюркологов не поддаётся её анализ [Васильев, 1872, с. 115—116].
Тем не менее, в XX в. было сделано несколько попыток объяснить хуннскую фразу IV в. н.э. на тюркском языковом материале. Б. Карлгрен (1899—1978; Швеция) реконструировал её на основе чтения древнекитайских знаков; она у него выглядит следующим образом (рядом даётся дословный перевод китайского перевода этого текста): siôg tieg t˙iei liəd kâng «войско вывести»; b‘uok kuk g‘iu t‘uk tâng «полководца захватить» [цит. по: Зарубежная тюркология, 1986, вып. 1, с. 13].
Г. И. Рамстедт (1873—1950; Финляндия), Л. Базен (1920—2011; Франция), А. фон Габен (1901—1993; Германия, ФРГ) и некоторые другие исследователи считали оригинал хуннской фразы IV в. н.э. также тюркским и соответственно её восстанавливали, но читали и толковали её различно, например (цит. по: Зарубежная тюркология, 1986, вып. 1, с. 13]: sükä talïgïn «выступай на войну» и bügüg tutan «поймай Бюгю» [Ramstedt, 1922, s. 30—31]; süg tägti ïdgan «пошлите армию в наступление» и boguγïγ tutgan «захватите полководца» [Basin, 1948, p. 208—219]; särig tïlïtgan «ты выведешь войско» и buγuγ kötürkän «ты похитишь оленя» [Gabеin, 1950, p. 244—246].
Относительно приведённых реконструкций хуннской фразы IV в. н. э. И. Бенцинг (1913—2001; Германия, ФРГ) отметил: «Более или менее надёжным в этом представляется: t‘uk tâng , очевидно, *tugta „захватывать, арестовывать“ = монг. togta- „останавливать, задерживать“, др. тюрк. tut- „держать, брать“, ср. аналогичное фонетическое изменение: монг. agta „мерин“ = др. тюрк. at „лошадь“; можно допустить, что siôg (t v ěg?) имеет отношение к древнетюркскому s „войско“, но ни тюркские, ни монгольские, ни тунгусские языки не содержат материала для какой-либо стройной интерпретации остальных слов» [цит. по: Зарубежная тюркология, 1986, вып. 1, с. 13; см. также Benzing, 1959].

Аналогично мнение Э. Дж. Пуллибланка. «Ни одно из этих объяснений, – пишет он, – не может считаться очень успешным, поскольку все они в большей или меньшей степени построены на произвольном обращении с фонетическим значением китайских иероглифов, так и с объяснениями, содержащимися в сопровождающем двустишие китайском тексте» [Пуллибланк, 1986, вып. 1, с. 61]. Сам Э. Дж. Пуллибланк входящие в хуннскую фразу IV в. н.э. китайские иероглифы читает и переводит как сю-чжи – «войско», ти-ли-ган – «выходить», пу-гу – «варварский титул Лю Яо», цюй-ту-дан – «взять в плен» [Там же. С. 61—62]. При этом он не восстанавливает связный текст хуннской фразы IV в. н.э. по причине нежелания «добавить что-нибудь ещё к списку предлагавшихся реконструкций» [Там же. С. 62].
Хуннская фраза IV в. н.э. до сих пор продолжает привлекать внимание исследователей. Так, например, А. В. Вовин (р. 1961; СССР, Россия, США) предложил своё, тюркско-енисейское, её прочтение и истолкование [Vovin, 2000, p. 87—104], А. В. Дыбо – своё, тюркское: sü-ge taλ-t-kan bökö-g göt-ök-ta-ŋ , что, согласно ей, означает «Войско заставив выйти наружу, бёке захватите, пожалуй» [Дыбо, 2007, с. 77].
Между тем, рассматриваемая хуннская фраза sieou-tchi ti-li-kang pou-kou khiu-tho-tang на материале чувашского языка может быть прочитана, не переставляя ни букв, ни слогов, ни тем более слов (что крайне важно при дешифровке любого письменного текста), как ивчě Тилě хан пуху хǎй тытнǎ дословно «проворный (ловкий) Лиса хан собрание сам держал (созвал)». Известно, что хунны собирались для совещания о делах. Китайские письменные источники сообщают, например, что у них «было обыкновение три раза в году собираться», на которых «начальники поколений рассуждали о государственных делах…» [Бичурин, 1950, т. 1, с. 119]. Шаньюй «открывал в орде собрание для совещания о делах…» [Там же. С. 129]. Правда, предложенный перевод хуннской фразы не согласуется с ее китайским переводом – в нём она означает благоприятное предсказание: по выступлении войска в поход «враг [приводится собств. его титул] будет вполне разбит» [цит. по: Иностранцев, 1926, с.142]. Разница в том, что в нём сообщается о самом собрании , который держал Лиса хан, а в китайском – о результате гадания . Быть может, это переводы разных, но связанных между собой по смыслу фраз? А может быть, одна и та же фраза, допускающая разное чтение и понимание, поскольку написана на не вполне пригодном для передачи звуков хуннского языка китайским письмом. Да и «сами китаисты совсем не единодушны в вопросе о звуковом содержании знаков этого письма в древности» [Дёрфер, 1986, с. 76].
Читать дальше