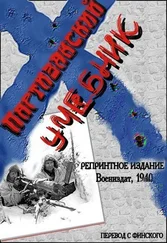И военною славой заплакал рожок,
Наполняя тревогой сердца.
Громыханье колес и охрипший свисток
Заглушило ура без конца.
Уж последние скрылись во мгле буфера,
И сошла тишина до утра,
А с дождливых полей все неслось к нам ура,
В грозном клике звучало: пора!
Нет, нам не было грустно, нам не было жаль,
Несмотря на дождливую даль.
Это — ясная, твердая, верная сталь,
И нужна ли ей наша печаль?
Эта жалость — ее заглушает пожар,
Гром орудий и топот коней.
Грусть — ее застилает отравленный пар
С галицийских кровавых полей… [45]
1 сентября 1914
Эдуард Багрицкий, 1895–1934
Весна еще в намеке
Холодноватых звезд.
На явор кривобокий
Взлетает черный дрозд.
***
Фазан взорвался, как фейерверк.
Дробь вырвала хвою. Он
Пернатой кометой рванулся вниз,
В сумятицу вешних трав.
Эрцгерцог вернулся к себе домой.
Разделся. Выпил вина.
И шелковый сеттер у ног его
Расположился, как сфинкс.
Револьвер, которым он был убит
(Системы не вспомнить мне),
В охотничьей лавке еще лежал
Меж спиннингом и ножом.
Грядущий убийца дремал пока,
Голову положив
На юношески твердый кулак
В коричневых волосках.
В Одессе каштаны оделись в дым,
И море по вечерам,
Хрипя, поворачивалось на оси,
Подобное колесу.
Мое окно выходило в сад,
И в сумерки, сквозь листву,
Синели газовые рожки
Над вывесками пивных.
И вот на этот шипучий свет,
Гремя миллионом крыл,
Летели скворцы, расшибаясь вдрызг
О стекла и провода.
Весна их гнала из-за черных скал
Бичами морских ветров.
Я вышел…
За мной затворилась дверь…
И ночь, окружив меня
Движением крыльев, цветов и звезд,
Возникла на всех углах.
Еврейские домики я прошел.
Я слышал свирепый храп
Биндюжников, спавших на биндюгах.
И в окнах была видна
Суббота в пурпуровом парике,
Идущая со свечой.
Еврейские домики я прошел.
Я вышел к сиянью рельс.
На трамвайной станции млел фонарь,
Окруженный большой весной.
Мне было только семнадцать лет,
Поэтому эта ночь
Клубилась во мне и дышала мной,
Шагала плечом к плечу.
Я был ее зеркалом, двойником,
Второю вселенной был.
Планеты пронизывали меня
Насквозь, как стакан воды,
И мне казалось, что легкий свет
Сочится из пор, как пот.
Трамвайную станцию я прошел.
За ней невесом, как дым,
Асфальтовый путь улетал, клубясь,
На запад — к морским волнам.
И вдруг я услышал протяжный звук:
Над миром плыла труба,
Изнывая от страсти. И я сказал:
«Вот первые журавли!»
Над пылью, над молодостью моей
Раскатывалась труба,
И звезды шарахались, трепеща,
От взмаха широких крыл.
Еще один крутой поворот —
И море пошло ко мне,
Неся на себе обломки планет
И тени пролетных птиц.
Была такая голубизна,
Такая прозрачность шла,
Что повториться в мире опять
Не может такая ночь.
Она поселилась в каждом кремне
Гнездом голубых лучей;
Она превратила сухой бурьян
В студеные хрустали;
Она постаралась вложить себя
В травинку, в песок, во все —
От самой отдаленной звезды
До бутылки на берегу.
За неводом, у зеленых свай,
Где днем рыбаки сидят,
Я человека увидел вдруг,
Недвижного, как валун.
Он молод был, этот человек,
Он юношей был еще, —
В гимназической шапке с большим гербом,
В тужурке, сшитой на рост.
Я пригляделся:
Мне странен был
Этот человек:
Старчески согнутая спина
И молодое лицо.
Лоб, придавивший собой глаза,
Был не по-детски груб,
И подбородок торчал вперед,
Сработанный из кремня.
Вот тут я понял, что это он
И есть душа тишины,
Что тяжестью погасших звезд
Согнуты плечи его,
Что, сам не сознавая того,
Он совместил в себе
Крик журавлей и цветенье трав
В последнюю ночь весны.
Вот тут я понял:
Погибнет ночь,
И вместе с ней отпадет
Обломок мира, в котором он
Родился, ходил, дышал.
И только пузырик взовьется вверх,
Взовьется и пропадет.
И снова звезда. И вода рябит.
И парус уходит в сон.
Читать дальше