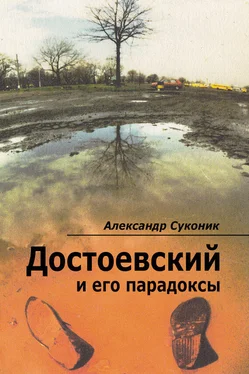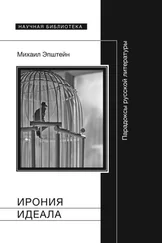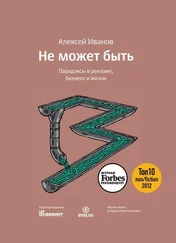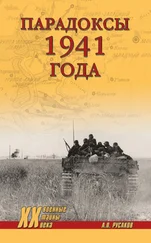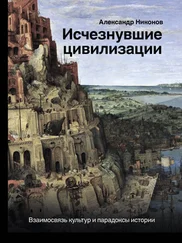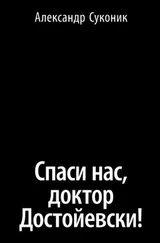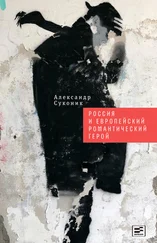Итак, вот то, что я попытался сравнить с двумя оторвавшимися от координат функциями. В продолжение всей книги Горянчиков называет ребенком только одного человека, самого себя, пропущенного сквозь призму видения себя Петровым и Орловым. Теперь же Горянчиков осмеливается сказать про арестантов, что они «дети, вполне дети». В продолжение всей книги Горянчиков тщетно пытается стать «одним из них», теперь вдруг он умиленно употребляет слово «нас». В продолжение всей книги слово «фантазия» связывалось только с презираемыми каторжанами-хвастунами, теперь же оно приписывается вообще каторге, равно как всей каторге приписывается способность к саморефлексии – крайне чуждой, враждебной, даже пагубной черте для цельной волевой ментальности:
Впрочем, надо признаться, и тут арестанты умели себя выдержать и достоинство соблюсти: восторгались выходками Баклушина и рассказами о будущем театре или только самый молодой и желторотый народ, без выдержки, или только самые значительные из арестантов, которых авторитет был незыблемо установлен, так что им уж нечего было бояться прямо выражать свои ощущения, какие бы они ни были, хотя бы самого наивного (то есть, по острожным понятиям, самого неприличного) свойства.
Вот в чем состоит неоценимая важность главы «Представление»: оказывается, не все пропало для «человека образованного, с развитой совестью», оказывается, каторжники из простого народа все-таки не «совсем другой народ», как скажет впоследствии Раскольников в «Преступлении и наказании», то есть не совсем глуха стена между ними, этими как будто цельными в своей нерефлексивности людьми системы отсчета Воля к власти, и человеком системы Добра и Зла. То есть, разумеется, о Добре и Зле (то есть об этике) разговора здесь по-прежнему нет, но уже одно то, что искусство может смягчить если не сердца, то хоть лица этих людей и привнести в их жизнь наивность фантазий, роднит их с Горянчиковым , они идут друг другу навстречу и встречаются в некоей точке, в которой – наше вам с почтением, господин из «чистых», который в «эфтом» деле понимает больше нас:
Конечно, места для арестантов полагалось слишком мало… Нас, меня и Петрова, тотчас пропустили вперед, почти к самым скамейкам, где было гораздо виднее, чем в задних рядах. Во мне отчасти видели ценителя, знатока, бывшего и не в таких театрах; видели, что Баклушин все время советовался со мной и относился ко мне с уважением; мне, стало быть, честь и место… Самые нерасположенные из них ко мне (я знаю это) желали теперь моей похвалы их театру и безо всякого самоуничижения пустили меня на лучшее место.
Какое невинное и наивное хвастовство! То есть опять же: конечно, тут нет разговора об общей системе отсчета в области морали и этики, но есть разговор об общей системе отсчета в том, что, может быть, для Достоевского гораздо важней – в области соотношения реальной жизни и искусства. На короткое, «перевернутое» время рождественского театра у него возникает не просто общая с простыми людьми система отсчета в этой области, но – поднимай выше – общество признает его здесь превосходящий авторитет. В этот момент он больше не культурологический попугай, каким он видит себя в глазах Петрова, он принят всерьез, и он на седьмом небе от счастья.
Признание арестантами искусства придает Горянчикову-Достоевскому внутреннюю опору, он меняется, припоминая свой прежний мир и себя прежнего, и обретает способность смотреть с состраданием «сверху-вниз» (способность, которую он потерял, видя, как масса каторжников ставит его в ничто):
Мало-помалу я припоминаю всё: последний день, праздники, весь этот последний месяц… в испуге приподымаю голову и оглядываю спящих моих товарищей при дрожащем тусклом свете шестериковой казенной свечи. Я смотрю на их бедные лица, на их бедные постели, на всю эту непроходимую голь и нищету, – всматриваюсь – и точно мне хочется увериться, что все это не продолжение безобразного сна, а действительная правда… «Не навсегда же я здесь, а только ведь на несколько лет!» – думаю я и склоняю опять голову на подушку.
Ни разу в книге он не смотрел так «сверху-вниз» на сотоварищей каторжан из простого народа – как, собственно, положено ему, экзистенциальному человеку, – кроме того детского воспоминания, которое я цитировал в предыдущей главе («Я припоминаю, как, бывало, еще в детстве…» и т. д.). Глава «Представление» – это единственное место в книге, когда Горянчиков ощущает себя принадлежащим к народной целостности, когда он обретает право сказать не «я» и «они», как он говорит в продолжение всей книги, но «мы». И это глава, в которой он, вдохновленный этим единством, записывает романтическое суждение не об арестантах, но вообще о русском народе – суждение, в котором отголосок будущего Достоевского-почвенника:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу