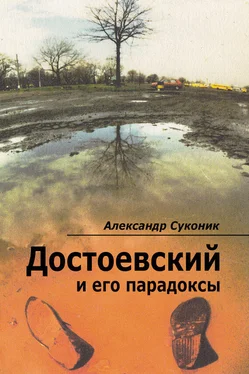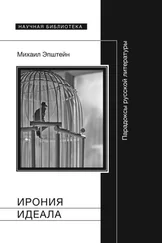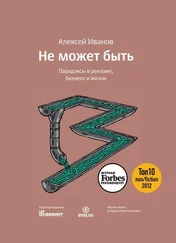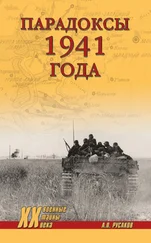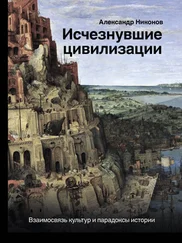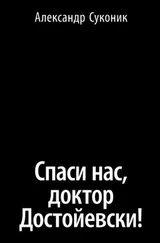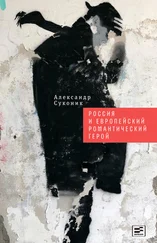Это расхожая мысль социальной российской мысли девятнадцатого века. Михайловский, например, пишет: «боярство развращает».
Ивана Ильича; только сила и бодрость жизни Герасима не огорчала, а успокаивала Ивана Ильича». – Толстой, «Смерть Ивана Ильича».) По сути дела, именно это хочет сказать Достоевский, когда нападает на староверцев: он ощущает их отрезанным ломтем от остальной массы простого народа, которая рутинно, не задумываясь ходит в «единоверческую церковь» и которую невозможно заподозрить, что она станет рассуждать о правильности или неправильности своей веры.
Слова «единоверческая церковь» Достоевский употребляет в том самом месте, в котором говорит о староверах. И он дает там еще один любопытный эпизод со стариком старовером, который совершил «чрезвычайно важное преступление»: сжег с «другими фанатиками» «единоверческую церковь», которую построило и сильно поощряло правительство. Этот эпизод проливает добавочный свет на истинное, а не декларируемое мироощущение Достоевского. Старик-старовер описывается словами, которые вполне подошли бы к описанию святого или околосвятого человека, и на ум приходит сходство – удивительное сходство – с единственным в послекаторжных романах Достоевского идеальным народным, непосредственно верующим персонажем, стариком Долгоруким из «Подростка». Вот описание старика старовера:
…редко встречал я такое доброе, благодушное существо в моей жизни… как ни всматривался я, как ни изучал его, никогда никакого признака тщеславия или гордости не замечал я в нем… Характера был в высшей степени сообщительного. Он был весел, часто смеялся – не тем грубым, циническим смехом, каким смеялись каторжные, а ясным тихим смехом, в котором было много детского простодушия и который как-то особенно шел к его сединам.
А вот Макар Иванович Долгорукий:
Прежде всего привлекало в нем, как я уже отметил выше, его чрезвычайное чистосердечие и отсутствие малейшего самолюбия; предчувствовалось почти безгрешное сердце. Было «веселие сердца», и потому и «благообразие». Словцо «веселие» он очень любил.
Итак, два схожих описания, но служат они диаметрально противоположным художественным целям: в случае Макара Ивановича цель автора пряма, но в случае старика раскольника обнаруживается драматическая пропасть между таким его ангельским обличьем и его, по определению Достоевского, «фанатическим» и «бунтовщическим» поступком, сожжением церкви: «…в ослеплении своем… решился “стоять за веру”, как он выражался». Странное дело: почему писатель, а вовсе не чиновник министерства внутренних дел Достоевский занимает такую законническую позицию по отношению к смиренному, глубоко религиозному человеку? Откуда такие нарочитые слова-пугалки – «фанатик», «бунтовщик», неужели и впрямь наш недавний петрашевец и будущий автор «Преступления и наказания» способен быть так поражен поступком старовера («прожив с ним некоторое время, вы бы невольно задали себе вопрос: как мог этот смиренный, кроткий как дитя человек быть бунтовщиком?.. А между тем он разорил церковь и не запирался в этом»)? Если бы на месте Достоевского был «профессиональный христианин», глубоко погруженный в православную риторику человек, как Константин Леонтьев, тогда другое дело, и слова бунтовщик и фанатик не требовали бы тогда кавычек. Но Достоевский в качестве оскорбленного в своей вере никоновца? Вряд ли в 1860 году писатель знал о разнице между никоновскими и староверческими обрядами богослужения много более того, что одни крестятся тремя перстами, а другие – двумя, и вряд ли его волновало, произносится ли во время богослужения «Господа животворящаго» или «Господа истиннаго и животворящаго». Но его волновало, кто относится к общественной цельности, а кто нет, и это самое здесь существенное (общественная цельность неспособна на «взгляд вниз», который есть дело сугубо индивидуальное). Можно, конечно, взглянуть на весь эпизод с той точки зрения, что Достоевский писал, опасаясь цензуры и стараясь при случае ее ублаготворить. Но тут таится нечто куда большее, потому что Достоевский весь эпизод с сожжением церкви выдумал (страница 283 примечаний к 4 тому Полного собрания сочинений: «Старик старообрядец, осужденный в “Записках” за поджог церкви, на самом деле был наказан бессрочной каторгой лишь на неисполнение обещания присоединиться к единоверцам и за отказ присутствовать при закладке церкви»). Горянчиков, описывая старика старовера, создает образ идеального человека, причем специфически идеального в системе критериев Достоевского (истинная религиозность, полное отсутствие тщеславия и гордости, тихая веселость, безукоризненная честность, простодушие, мягкость характера). И всем этим качествам контрастно противопоставлено только одно: он сектант, произносящий свое «я – есть!» не стихийным антиинтеллектуальным актом насилия, как остальная масса каторжников, но интеллектуальным упорствованием оставаться в отколе от «единоверчества», то есть от целостного общества. И это одно, с точки зрения Достоевского, перевешивает все его положительные качества.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу