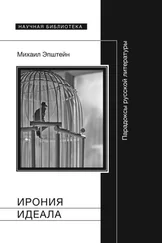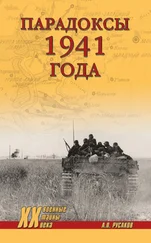О трагедии отсутствия воли и трагедии стихийного своеволия повествует в книге отдельная глава под названием «Акулькин муж». Именно так, акулькин муж, хотя расказчик говорит нам, что фамилия этого мужа была Шишков, что был он «пустой и взбалмошный человек» и что арестанты «как-то с пренебрежением с ним обходились». Но название главы совершенно точно, она сама по себе художественное произведение и могла бы быть названа: «как акулькиного мужа приворожили» или «как акулькин муж волю потерял», что-нибудь в таком роде. Дело происходит в каторжном госпитале, ночью, и рассказчик слышит, как по соседству с ним тихо разговаривают два арестанта, один из них, тот самый Шишков, излагает историю своей жизни. История строится как трагедия, в которой акулькиному мужу, человеку без воли, противостоит малый по имени Филька Морозов, воплощающий собой своеволье. Точней, воля обоих мужчин подчинена какой-то роковой стихии, оба несвободны в том смысле, что обоим судьба предназначила роли, и оба влекомы к трагической развязке, в центре которой фигура жертвы, молодой женщины Акульки. Оговаривает ли Филька Морозов Акульку или вправду с ней спал? Зло ли затаил против нее или его лишает разума (способности действовать разумно) неразделенная любовь? Никто не может ничего сказать, и уж тем более акулькин муж, который настолько «сам себя не знает», то есть ни в чем не верит себе, что даже убедившись в брачную ночь, что Акулька невинна, тут же меняет мнение только потому, что:
А Филька-то мне мало времени спустя и говорит «Продай жену – пьян будешь. У нас, говорит, солдат Яшка затем и женился: с женой не спал, а три года пьян был… А ты, говорит, дурак. Тебя нетрезвого повенчали. Что ж ты в эфтом деле, после всего, смыслить мог?» Я домой пришел и кричу: «Вы, говорю, меня пьяного повенчали!»
Хоть акулькиному мужу порой жалко жену, хоть он валялся у нее в ногах после брачной ночи, прося прощенья, все существо его одержимо, околдовано не Акулькой, а Филькой Морозовым, который с начала и до конца рассказа завихрен в совсем уже сказочных размеров стихию гульбы и пьянства – сперва пропивает наследство богатого старика-отца, а потом становится в другой богатой семье «наемщиком» (нанимается идти в армию за другого) и продолжает все так же в завихренности своих желаний: «Так Филька-то у мещанина-то дом коромыслом пустил, с дочерью спит, хозяина за бороду кажинный день после обеда таскает – все в свое удовольствие делает. Кажинный день ему баня, и чтоб вином пар поддавали, а в баню его чтоб бабы на своих руках носили». Такой мифических размеров образ возникает из рассказа, между тем акулькин муж пытается куражиться по-своему, то есть именно не «по-своему», а наподобие филькиной тени: «Я вас и слышать теперь не хочу! Что хочу, то над всеми вами и делаю, потому что я теперь в себе не властен; а Филька Морозов, говорю, мне приятель и первый друг. – Значит, опять вместе закурили? – спрашивает госпитальный собеседник. – Куды! И приступу к нему нет» (ну вот, совсем как у Белки нет приступа к Жучке). И заканчивается эта история тоже литературно, совершенно так, как «Кармен» Проспера Мериме: акулькин муж убивает Акульку, которая говорит ему в тот день, когда Фильку забрили в солдаты: «Да я его, говорит, больше света теперь люблю!».
Ближе к началу рассказчик делит каторжных на угрюмых и веселых: «Вообще же скажу, что весь этот народ, – за некоторыми немногими исключениями неистощимо веселых людей, пользовавшихся за это всеобщим презрением, – был народ угрюмый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый, обидчивый и в высшей степени формалист». Кажется, рассказчик не расположен к угрюмым людям, а тем не менее, он постепенно под влиянием каторги, под влиянием понимания, каким образом строится каторжная человеческая иерархия, меняет свое мнение (хотя и не меняет пристрастия): «Скуратов был, очевидно, из добровольных весельчаков, или, лучше, шутов, которые как будто ставили себе в обязанность развеселять своих угрюмых товарищей и, разумеется, ничего, кроме брани, за это не получали». Сперва автор не понимает, почему каторжники бранят Скуратова, называют его «безобразным» и «бесполезным» человеком, и думает, что здесь что-то личное. Но со временем понимает: «…это были не личности, а гнев за то, что у Скуратова не было выдержки, не было строгого напускного вида собственного достоинства, которым заражена была вся каторга…» Достоинство может быть напускным, но в том, что достоинство ценится нет ничего напускного, то есть, фальшивого: тут указывается направление к идеалу человеческого существа, как оно понимается на каторге, вопрос только в том, чтобы различить, где достоинство напускное, а где проистекает от истинной силы характера.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу