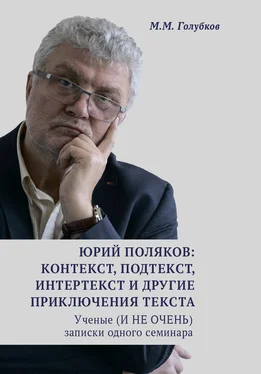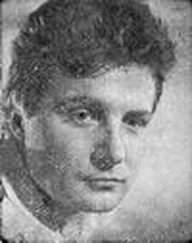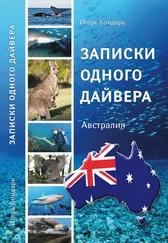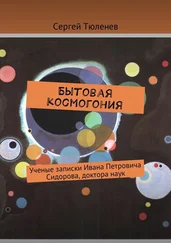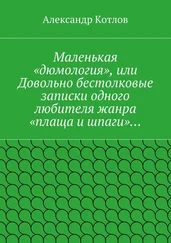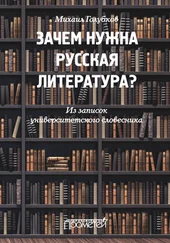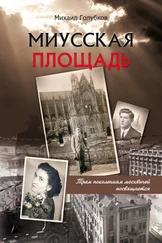Но в романе «Гипсовый трубач» прочитывается еще один важнейший смысловой пласт, не менее значимый, чем те, о которых шла речь выше, а нередко выходящий и на первый план. «Гипсовый трубач» – это роман о творчестве, роман об искусстве.
С первых и до последних страниц текст пронизан размышлениями на эстетические темы. Споры героев об искусстве и его назначении, о том, каким должно быть настоящее произведение искусства, о вдохновении и творческом труде – важнейшая составляющая художественного пространства романа.
Обратимся к названию произведения. «Гипсовый трубач» – это, конечно же, многомерный символ. Он связан и с атмосферой «уходящей советской эпохи», и с образом главного героя романа, ведь для него гипсовый трубач становится воплощением лучших страниц его юности и ассоциируется с воспоминаниями о навсегда утраченной любви. Но название романа говорит и о той особой роли, которая отдана теме искусства в этом произведении. «Гипсовый трубач» – это скульптура, украшавшая аллею в пионерском лагере. Читатель впервые встречает описание полуразрушенной скульптурной композиции – гипсового трубача и стоящего напротив него гипсового же барабанщика – в одиннадцатой главе романа, в тексте рассказа Андрея Львовича Кокотова. В название романа вынесен отнюдь не абстрактный символ, перед нами обозначение произведения искусства, точнее, одного из элементов скульптурной группы. Но «Гипсовый трубач» – это и название еще одного произведения – рассказа Кокотова, где Андрей Львович повествует историю своей юношеской любви. Поэтому заглавие романа вбирает в себя сразу целый комплекс ассоциаций, связанных с областью искусства, и это абсолютно не случайно.
Ход развития романного действия подтверждает мысль о том, что одной из главных тем «Гипсового трубача» является тема искусства и творчества. Основой сюжета становится описание и воссоздание творческого процесса – это процесс создания сценария, над которым трудятся главные герои, писатель Андрей Львович Кокотов и режиссер Дмитрий Антонович Жарынин. В центре романа – фигуры творческих личностей, столь непохожих друг на друга, абсолютно по-разному видящих мир и по-разному воспринимающих искусство, а потому почти постоянно ссорящихся, колко задевающих друг друга и всё-таки работающих бок о бок и наслаждающихся совместным творчеством, созданием сложного и прихотливого сооружения – сценария, который, впрочем, так и не будет написан. Но главное и самое ценное для читателя – это не собственно сценарий, а возможность погрузиться в творческую лабораторию писателя и режиссера, стать наблюдателем и свидетелем того, как создается произведение искусства.
Как сами персонажи романа воспринимают свой творческий труд? Какую роль играет творчество в их жизни? Что такое искусство в понимании каждого из них? Не будет ошибочным утверждение, что ответы на эти вопросы во многом определяют мировоззрение главных героев романа и что вопрос об искусстве становится центральным предметом их обсуждения и осмысления.
На страницах романа об искусстве почти постоянно размышляет Дмитрий Жарынин – режиссер, который давно уже не снимает фильмов и осознает, что не снимет уже больше никогда. Он довольно успешно занимается ресторанным бизнесом, ему хватает денег, и он обладает достаточно прочным положением. Но при этом он вовсе не отказался от мыслей о кинематографе. Жарынин уже много лет повторял один и тот же «творческий опыт»: «…выискивал сценариста или писателя, опубликовавшего что-нибудь заковыристое, делал щедрое предложение и увозил в «Ипокренино» – поил, кормил, предавал утехам, тратя на это почти все семейные доходы… Однако до съемок дело никогда не доходило. Покуролесив, поважничав, насладившись пиром первичных озарений, Жарынин обрывал творческий процесс с помощью необоснованных придирок и обидных капризов. Соавтор обижался и сбегал. Бодрый, свежий, душевно омытый, Дима возвращался в ресторан».
Конечно, со временем в творческой среде всем стало известно, что Жарынин «фильмов не снимает и связываться с ним, терпеть его чудачества, тратить время и нервы не имеет никакого смысла». Тогда режиссер принялся отыскивать в альманахах произведения талантливых, но малоизвестных авторов, которые далеки от мира кинематографа и ничего не знают о Жарынине. Так режиссер нашел и Андрея Львовича Кокотова и предложил работу над сценарием по его рассказу «Гипсовый трубач». Конечно, Жарынин и в этот раз, как и всегда, прекрасно знал, что никакого фильма не будет. Ни сценарий не будет толком написан, ни денег на фильм нет. Тот мифический богач мистер Шмакс, который якобы готов спонсировать фильм, оказывается плодом жарынинской фантазии (т. е. «мистер Шмакс» существует, но это всего лишь собачка Жарынина, а вовсе не спонсор-миллиардер). Зачем же Жарынин продолжает повторять всё тот же опыт и работать над сценариями, по которым никогда не будут сняты фильмы? В этом выражается глубинная и, может быть, самая страстная и настойчивая личностная потребность Жарынина – потребность в творчестве. Работая над новым сценарием, Жарынин всякий раз переживает творческий взлет, накал творческих страстей. Он видит в деталях буквально каждый эпизод создаваемого фильма, вдохновение захлестывает режиссера бурной волной, и воображение влечет его всё дальше и дальше. Лейтмотивом работы Жарынина над сценарием по кокотовскому рассказу становится страстное восклицание: «Ах, как я это сниму, как сниму!». Режиссер повторяет эти слова десятки раз на протяжении романа. Любой сочиняемый эпизод начинает искриться и трепетать в воображении Жарынина, которым в этот момент овладевает лишь мысль о том, каким будет кинематографическое воплощение этой сцены. Жарынина воодушевляет каждый новый поворот рождающегося сюжета: это может быть первое трепетное чувство юных сердец («Ах, как я это сниму! Малиновые осенние закаты, рябиновые грозди, случайные взгляды…»), или отчаянная драка в пионерском лагере («Ох, я вижу, вижу эту молодую драку на глазах у потрясенных пионеров. Как я это сниму!»), или странная свадьба, когда рядом с любящим женихом – не отвечающая взаимностью невеста, к тому же беременная от другого (и в лице жениха, «в его еле заметной самолюбивой гримаске зашифрована вся катастрофа их будущей семейной жизни! Гости кричат: «Горько, горько!» Ах, как я это сниму!»). Жарынин прекрасно знает, что никогда не снимет ни одной из этих сцен, и всё же вновь и вновь повторяет в творческом экстазе заветные слова. Жарынину необходимо испытывать творческое горение, жар созидания. Это человек, который, в сущности, живет искусством и для искусства. Если бы он не имел отдушины в виде периодических «творческих загулов», а был бы вынужден оставаться только ресторатором, бизнесменом, то это неминуемо привело бы его к краху, к разрушению личности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу