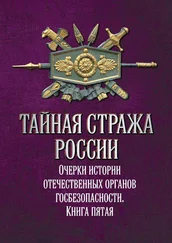Сейчас, по логике вещей, должно быть «но». Будет, не извольте беспокоиться.
Начать придется с теории. Чем, по-вашему, российский прозаик отличается от западного? Проклятым буржуинам важен спрос как гарантия роялтиз. Не заинтересуешь читателя – пиши пропало. Но у советских собственная гордость: им самовыражение дороже. Нас хлебом не корми, дай поведать граду и миру о собственных рефлексиях из-за выеденного яйца и глубоких теориях насчет легиона ангелов на конце иглы. Поэтому Шаров мог десять авторских листов подряд рассуждать, что Вавилонская башня и Дантов ад, Христос и антихрист, добро и зло суть палиндромы. Поэтому Иличевский взахлеб доказывал тождество ДНК и стихотворных размеров: все чередуется, там – сгустки азотистых оснований, здесь – ударения. Поэтому Мелихов размазывал тезис Раушенберга об эстетике безобразного до размеров романа. Критика была в привычном восторге – она давным-давно приравняла невнятицу к глубокомыслию. Публику лихорадило от сопричастности высокому: я Шарова читаю, ведь я этого достойна!
Чижов из той же команды: любит заумствоваться разной тонкой деликатностью – да такой, что нашему брату к этой учености и приступу нет. Главная героиня его прозы – некая идея, настолько отвлеченная, что: а) с трудом поддается вербализации; б) не имеет ни малейшего отношения к читателю. Однажды автору вздумалось потолковать о поэзии и власти – родился «Перевод с подстрочника», где Чуркистан-баши сочинял стихи, которые тут же становились национальными проектами. На редкость увлекательный саспенс, Стивен Кинг рыдает от зависти. После пришла Е.Ч. в голову донельзя расплывчатая мысль насчет памяти и ностальгии – вот и готов «Собиратель рая». И то, и другое у нас пустили по ведомству интеллектуальной прозы.
Думаю, хорошо сделанная проза всегда интеллектуальна, ибо влечет за собой шлейф читательских мыслей. Но попытка превратить дистиллированную абстракцию в прозу… Господи, избави!
С вашего разрешения, еще один теоретический экскурс. По определению Игоря Ратке, в основе отечественной интеллектуальной прозы лежит «отказ от традиционной миметичности» , то есть жизнеподобия. Со всеми вытекающими. Дистрофическая фабула ютится где-нибудь в чулане, а то и вовсе на задворках. Нарратив вытеснен беспощадным резонерством. Персонажей нет – есть функции, иллюстрирующие тот или иной авторский тезис.
А теперь – милости прошу сравнить.
Фабулу «Собирателя» легко уложить в одну фразу: в первой части старьевщик Кирилл будет до читательского посинения искать свою матушку, страдающую болезнью Альцгеймера, в Москве, во второй – в Нью-Йорке. И вновь до посинения. Впрочем, Кирилл, он не так себе старьевщик – люмпен-интеллектуал, собиратель разномастного утильсырья, которое дает ему возможность существовать вне времени: он то сталинский китель напялит, то брюки «полпред», то кепку-лондонку. В «Переводе с подстрочника» Чижов уже говорил вскользь, что человек есть коллекция случайного хлама, а нынче довел этот тезис до логического конца. Кирилла окружает свита поклонников обоего пола, трепетно внимающих его долгим и нудным тирадам: «Все наше будущее осталось в прошлом. И чтобы вновь открыть для себя будущее, надо сперва вернуться назад». И так – десять авторских листов: поиски матери сменяются логореей и наоборот. В наличии единственная реперная точка – речь о ней уже была. А что вы хотели? Артхаус, он всегда Ding für sich – и вовсе не в кантовском смысле.
Можно, я еще побуду умным и скучным критиком? – предмет уж очень располагает.
«Собиратель рая» един в двух лицах: у текста есть экзистенциальная и метафизическая ипостаси. В первой – рассказ о «лишних людях», занятых незнамо чем и к иному фатально неспособных. Кирилл по-плюшкински заваливает материнскую квартиру хламом. Его наперсник Карандаш специализируется на нематериальной памяти: записывает рассказы обитателей барахолки в надежде когда-нибудь написать роман. Но это вряд ли: блокнот истрепан, часть листков потеряна, а остальное перемешалось до полной неразберихи. Девки дружно сохнут и мокнут по Кириллу, хотя мачо из него, как из меня математик. На что этот мусорный бомонд живет и покупает траченные молью реликвии, одному автору ведомо. И только он знает, чем, кроме имен, герои отличаются друг от друга: все думают одни и те же мысли и произносят одни и те же речи. Сказано вам: никакого жизнеподобия. В топку!
В метафизической ипостаси обнаруживается до неприличия примитивная аллегория. Марина Львовна с ее Альцгеймером – это вам не мать, это Родина-мать. Пораженная беспамятством, она убеждена, что живет в Советском Союзе и вслепую ищет потерянный рай сперва в России, а потом в Америке. Тем временем ее беспризорные дети, погруженные в безвременье, пытаются найти себя то в одной, то в другой эпохе – отсюда и вечные маскарады с переодеваниями. Карандаш обобщает: «Мне кажется, эта тяга сбежать из своего времени так распространилась потому, что будущего не стало. Раньше ведь верили, что в будущем всех ждет что-то совсем другое, новое, чего никогда прежде не было: коммунизм там, полеты в космос, освоение новых планет… А теперь все это рассыпалось, наш проект свернули, и у людей не осталось ничего, кроме прошлого». Лет 20 назад это, может, и впечатляло, но со временем перешло в разряд плесневелых трюизмов. В топку!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу