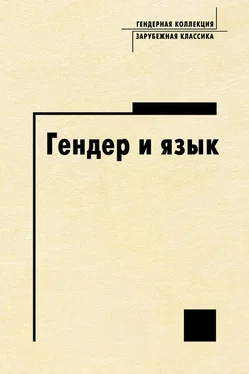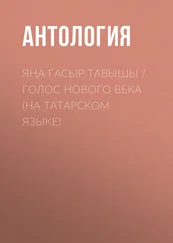2.4. Типичные для ситуаций несогласия тактики маскировки
Результаты анализа отчетливо обнаруживают, что одновременно со степенью официальности коммуникативных моделей в университетской среде также возрастает предпочтительность несогласия (то есть оно становится необходимым). Научный диспут протекает иначе, чем спор в частном общении, который, по крайней мере в идеале, ориентирован на решение конфликта; научная же дискуссия проходит в дебатах; раннее согласие считается нежелательным и непродуктивным. Категорическое несогласие, как правило, приветствуется (председатели заседаний часто открыто хвалят за несогласие) и расценивается как признак «оживленной, успешной» дискуссии, даже если спор продолжается до закрытия заседания (что в рамках частного общения может быть классифицировано как «деструктивное» поведение). Тем интереснее в этой связи следующее наблюдение: несмотря на всю желательность бурной полемики истинное выражение несогласия, видимо, подлежит многочисленным ограничениям и табу (которые направлены прежде всего против всякого рода «неожиданностей»). Этот феномен можно объяснить тем обстоятельством, что именно в институциональном контексте несогласие не только призвано служить деловому, конструктивному обсуждению темы, но может использоваться (и, как правило, используется) в качестве инструмента поддержания статуса и престижа. По характеру высказанного замечания (тонкого, рафинированного, элегантного, остроумного или сверхосторожного (или чрезмерно агрессивного), растерянного или банального) можно судить и о том, как член сообщества утверждает свое место в иерархии, и как он / она завоевывает «новую территорию»; реакция же аудитории позволяет предположить, насколько успешной она считает тактику коллеги.
То же касается критикуемого человека и его готовности «держать удар» или пойти на уступки. Уступать в чем-либо (или еще хуже: никак не реагировать) в уже начатом диспуте, как правило, является непредпочтительным и представляет угрозу для имиджа, так как говорящий / говорящая тем самым дает понять, что он / она не умеет отстаивать свою точку зрения [77]. Эмпирические данные обнаруживают, однако, характерный для принципа завуалированности тип «условных» уступок, которые говорят не о капитуляции, а функционируют лишь как риторические уловки. Выступающий, например, в ответ на критику может легко (и чисто риторически) начать свою речь словами: «совершенно верно» и непосредственно перейти к контратаке, которая не оставляет ничего «верного» от критики коллеги. Отвлекающие маневры функционируют сходным образом: сначала признается правота оппонента, указавшего, например, на упущение, но затем значимость этого упущения маргинализируется путем введения новой темы (вроде «То, что в этой связи заслуживает значительно более пристального внимания, – это…»), что занимает 5/6 всего времени, отведенного на ответ. Сходство названных стратегий заключается в уклонении от выражения незавуалированных критики и опровержения. Однако термин «уклончивое поведение» является для описания этого феномена недостаточным, поскольку участники дискуссий избегают не критики (и даже не ее резкости), а только лишь речевых формул, позволяющих ее сразу распознать [78].
В академической среде следует с осторожностью относиться к положительным высказываниям и любого рода похвале («Итак, я считаю Ваш доклад весьма увлекательным, уважаемая коллега»), поскольку явные превозношения в данном контексте (и это является частью знаний всех членов группы, которые в соответствии с ними приспосабливаются к ситуации) часто сигнализируют о том, что далее последует жесткая критика. Нередко критическое выступление разворачивается так: от комплимента в начале высказывания – ограничение комплимента – осторожное оспаривание – четкое выражение сомнений в компетентности предыдущего докладчика – уничтожающая критика [79].
Демонстрация неуверенности также часто является стратегией маскировки в чистом виде. Высказывания такого рода, как «Видимо, я здесь единственный, кто этого не понимает», «Я, к сожалению, только недавно получил (а) текст, так что не смог-(ла), вероятно, до конца вчитаться, но…», или стереотипное «Я не знаю» в начале речи в официальном контексте почти никогда не должны восприниматься буквально (в буквальном прочтении это были бы представляющие угрозу для лица / имиджа признания). По крайней мере, наши эмпирические данные показывают, что участники дискуссий часто предпочитают открывать критические выступления такими формулами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу