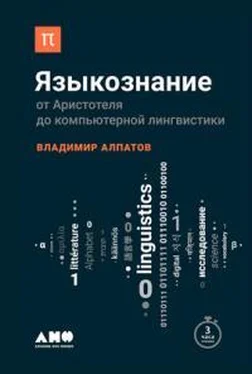Как и другие лингвистические дисциплины, типология имела периоды «приливов» и «отливов». Идея о том, что разные типы языков различаются по степени совершенства (самыми совершенными считались флективные языки) и отражают стадии человеческого мышления, была отвергнута еще во второй половине XIX в. После этого несколько десятилетий типология почти не развивалась. Ее возрождение началось в 1921 г., когда появилась книга уже упоминавшегося Эдварда Сепира «Язык». В 1920–1930-е гг. были выдвинуты две важные идеи, изменившие характер типологии. В отличие от ученых XIX в., для которых типологическая классификация языков была принципиально единой, отражавшей стадии движения человеческого духа, Сепир определил такую классификацию как выделение разных параметров, свободно комбинирующихся друг с другом. Это, в частности, позволило найти место инкорпорирующим языкам, которые «не влезали» в традиционную шкалу. Если флективные (фузионные, в терминах Сепира), агглютинативные и изолирующие языки противопоставлены по степени спаянности морфем между собой, то инкорпорирующие языки (названные Сепиром полисинтетическими; современные лингвисты, впрочем, разграничивают эти два класса) имеют максимальное значение по признаку выражения грамматических значений внутри слова. Им противопоставлены синтетические языки (русский, турецкий), где слово обычно грамматически оформлено, но подлежащее и дополнения выражаются отдельными словами, и аналитические (китайский, английский), где грамматические отношения обычно выражаются вне слова.
Уже в 1930-е гг. чешский лингвист Владимир Скаличка (1909–1991) выдвинул другую важную идею — языка-эталона. Раньше считалось, что языки делятся на классы и каждый язык обязан относиться к какому-то из классов. Однако в языках, как правило, сосуществуют черты разных типов. Скажем, и в русском языке есть агглютинативные аффиксы (например, - ка в давай-ка ), а в японском языке существительные целиком агглютинативны, но в глаголе немало флективных черт. Скаличка выделил изолирующий, флективный и пр. эталоны как набор признаков, которые по-разному могут присутствовать в реальных языках. Языки редко полностью соответствуют этим эталонам, но по-разному к ним приближаются. В эти же годы типология перестала быть дисциплиной, основывавшейся лишь на морфологии. Появились фонологические, синтаксические классификации языков; одним из основателей синтаксической типологии стал советский языковед, академик Иван Иванович Мещанинов (1883–1967). Несколько позже начали предприниматься и попытки семантической типологии, исследующей, как выражаются в языках те или иные значения.
Однако для развития типологических исследований есть два очень существенных препятствия. Хотя количество исследуемых языков всегда росло и сейчас несопоставимо со временами «Грамматики Пор-Рояля», для типолога всегда очень трудно решить, насколько его исследование охватывает все языки или хотя бы представительную их часть. На Земле еще есть неизученные территории, где могут найтись абсолютно неизвестные языки. Особенно это относится к джунглям Амазонки и Новой Гвинее. Но даже если язык известен по названию, он может быть совсем не описан. В Юго-Восточной Азии и на юге Китая есть языки, имеющие более миллиона носителей, о которых лингвистам совсем ничего не известно (отмечу, что в Китае сейчас очень активно открывают для науки такие языки).
Но даже в случае, когда описания того или иного языка существуют, встает вопрос о сопоставимости описаний разных языков. Вот совсем анекдотический, но показательный случай. В 1970-х гг. был составлен справочник грамматических показателей в тюркских языках (оставшийся неопубликованным), в котором среди них выделялись языки с инструментальным падежом, языки с орудным падежом и языки с творительным падежом. На самом деле это три разные названия одного и того же падежа, встречающегося в тюркских языках (типологически очень похожих друг на друга). «Орудный падеж» — русская калька термина «инструментальный падеж», который может встречаться в отечественных грамматиках и в виде прямого заимствования. Но в русском языке значение инструмента ( писать пером , рубить топором и пр.) свойственно творительному падежу, поэтому тюркский падеж со сходным значением тоже может именоваться творительным. В советских грамматиках разных тюркских языков, материал которых использовался в справочнике, могли употребляться различные термины, что создавало иллюзию принципиального различия между языками. Этот случай — сравнительно простой, но зачастую оказывается нелегко понять, когда за разными терминами скрывается разное содержание, а когда — одинаковое. И наоборот, может оказаться, что один термин в разных грамматиках используется для обозначения совсем разных явлений.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу