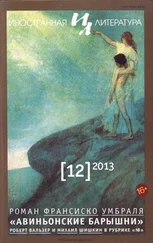Ты был вместе с отцом до самого его ухода. Когда он осмелился на поступок – подписал письмо в защиту Солженицына, – наказание последовало незамедлительно: его книги, уже готовые к печати, запретили, набор рассыпали. Последние годы он писал в стол без какой-либо надежды. Ты рассказывал, как ему было тяжело, какие это были для него мрачные годы, как он пил. И как он был счастлив писать наконец честную, свободную книгу – без страха, без оглядки на цензуру.
Ты много рассказывал мне об отце, говорил, что всем ему обязан, что именно он оказал на тебя как на писателя огромное влияние, что он целиком тебя сформировал, что ты вырабатывал себя, споря с ним. Он учил тебя, что добра с кулаками не бывает, если с кулаками, то это уже не добро. Ты видел, как он отчаянно переживал из-за того, что его корежила цензура, что он не мог писать так, как хотел. И для тебя литература была совершенно немыслима как профессия, он всей своей жизнью научил тебя писать исключительно для себя, свободно. И ты начал писать, понимая, что читателем твоим мог быть только КГБ. Отсюда все эти странные чекисты твоих романов, которым важно каждое написанное твоими героями, то есть тобою, слово, каждая запятая. Ты писал для чекистов, которые рано или поздно придут за твоими текстами и за тобой. И не их вина, что страна сделала очередное сальто-мортале, и им стало на какое-то время не до тебя.
Даже после смерти отца ты вел с ним непрекращающийся разговор, и это было больше чем диалог, это было сотворчество. Идею для твоего, наверное, лучшего романа “Возвращение в Египет” тебе отец подсказал оттуда. Ты говорил об этом в одном интервью: “Я перечитывал собрание сочинений Гоголя и обнаружил на полях комментарии моего отца. Что написано, разобрать не сумел, но пометы были сделаны в тех же местах, на которых останавливался я сам. Пройти мимо таких вещей трудно”.
Твой отец был сказочником, публиковал грустные мудрые сказки, но, мне кажется, ты вырос не на них, а именно на его неподцензурных разухабистых байках, полных другой правды о жизни и времени. Все они – о человеческом тепле и вере в чудо. Смысл был в соответствии не с внешней реальностью, а с сутью мироздания. Именно так живет твоя проза. Врач – для спасения людей, а не для убийства. Власть, полиция, тайные службы – для того, чтобы беречь нас. Мы идем в Землю обетованную, а не возвращаемся в Египет. Суть мироздания – в любви и в вере в чудо.
Наверное, ты любил рассказывать отцовские байки, потому что так ты удерживал отца, не давал ему уйти.
Наверное, и я для этого говорю сейчас с тобой – чтобы удержать хоть ненадолго, не дать тебе сразу уйти.
Мы могли подолгу не видеться, но разговор наш никогда не прерывался. Outlook – хранитель времени и слов.
Тебе о перечитанных “Репетициях”:
“Я был совершенно оглушен, смят, завернут в твой текст – и продолжалось так несколько дней, пока не перечитал всё. Невозможно было оторваться, хотя отрываться приходилось постоянно – заели всякие дела, к тому же мы переезжаем и т. д. и т. п.
Не знаю, обрадуешься ли ты тому, что я сейчас скажу, или огорчишься, но «Репетиции» – это, на мой, разумеется, взгляд, самый «шаровский» текст из всего, что я тебя читал. Реальность абсурда завораживает. Я подчиняюсь твоей мощи абсолютно, просто перестаю существовать и из читателя в позе «ну что такого нового может мне тут какой-то еще автор навесить на уши» становлюсь совершенно буквально частью бесконечного круга, по которому ходят твои евреи, христиане и римляне. Замыкаю разорванный тобой круг. Они идут дальше по мне.
В этом романе совершенно нет «нешаровских» кусков. Всё идет с постоянным напряжением, и, честно говоря, – возвращаясь к нашему разговору у тебя на кухне – ты обрываешь действие, чтобы перескочить, например, через пару веков и снова его продолжить с потрясающими деталями – в общем-то произвольно. Эти перерывы совершенно не вытекают из потребностей текста. Иногда создается впечатление, что ты мог бы (и должен был бы) рассказывать дальше, но вдруг ты думаешь о том, что уже написал 300 страниц и где-то нужно сокращать, закругляться – в расчете на «общепринятый» объем романа. Такой текст должен, по мне, длиться столько, сколько длится, пусть 800 страниц, пусть 1000.
Из-за того что ты обрезаешь (извини за невольный каламбур, не хотел) своих героев в одном романе, они – их энергия, их жизненное поле – прорываются, прорастают в других романах, хотя по сути это те же сгустки жизни, которым ты не дал выжить всех себя в предыдущих текстах. Отсюда ощущение, что герои последующих романов идут по тем же кругам, по которым шли предыдущие.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Михаил Шишкин Буква на снегу [litres] обложка книги](/books/413547/mihail-shishkin-bukva-na-snegu-litres-cover.webp)