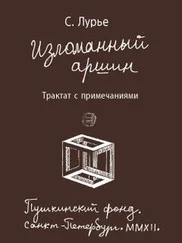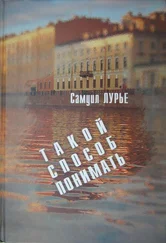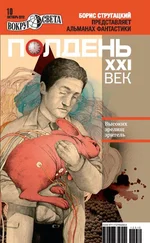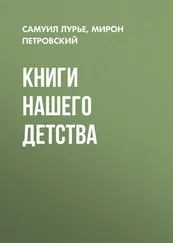«Посмотрев на Сашу, Вера спросила:
– Не обязательно ведь опять про этого… как его… игумена Пафнутия… Я думаю, можно там какой-нибудь другой текст написать? Это не сложно?
Саша немного смутился:
– Если прямо сейчас… Это займет некоторое время…
– Пожалуй, вы правы, – сказала Вера. – Сделаете не спеша, потом установите. Текст пусть будет такой: „Торг здесь неуместен“. Я уверена, что вы для меня постараетесь…»
Все это было бы смешно, когда бы не было так скучно. Дальше цитировать лень. Качество, так сказать, всюду такое же. Псевдоним работает как банкомат, исправно конвертируя царские рубли в поддельные доллары. Пэтэушный демонизм замысла с лихвой перекрывается добротной, надежной бездарностью исполнения.
Г-н Захаров публично грозит подвергнуть участи бедного «Идиота» другие великие русские романы, так что постепенно Псевдоним руку набьет. Но пока что служебные предложения – назовем их ремарками, – не говоря уже о мотивировках речевых и прочих жестов, ему не даются.
И его творческие поползновения лишь кое-где идут дальше, чем подрисовать печатной красавице усы и приписать какое-нибудь трехбуквенное слово.
С исключительным тщанием оскверняет наш Псевдоним разумное, доброе и вечное. И рано или поздно филологическая наука скажет ему сердечное спасибо за этот мартышкин – Сизифов – труд.
Потому что это грандиозный практический опыт пресловутой деконструкции. Как если бы в бараке или казарме какой-нибудь весельчак исполнил под патефон оперу Вагнера или Чайковского, матерно импровизируя текст.
Кто-то уже писал, что романы Достоевского построены как оперы. Теперь это доказано усилиями Псевдонима. Избранный им способ репродукции выявил непрочность искажаемого слога: нитки трещат, из-под букв проступает бумага, – но композиция сохранена, и эта композиция оказалась последовательностью музыкальных номеров, причудливой лестницей мелодий!
Как бы ни кривлялись на ее ступенях пошлые голоса, что бы ни артикулировали – хоть программу Черной сотни, хоть рекламу противозачаточных, – все равно: пока интонации романа не разрушены до основанья, – он и систему сточных труб способен превратить в отдаленное подобие органа. Оказывается, он стоит нашей любви больше, чем мы думали.
Молодец Псевдоним! Даже если он покушался на убийство – все равно спасибо ему, что ограничился кражей.
Хотя вообще-то все это напоминает историю, рассказанную где-то Владимиром Солоухиным: как в одну из русских революций ликующие поселяне извлекли из склепа гроб князя Тенишева, сорвали крышку, покойника усадили: газету в руки, папиросу в зубы, – и в таком виде с песнями носили под окнами вдовы: будешь знать, как способствовать народным художественным промыслам!
Вот и литературный пролетариат перенял обычаи сельского.
В эпоху Достоевского, потревожь г-н Захаров подобным образом чью бы то ни было тень, его издательскую карьеру можно было бы считать законченной: перебивался бы изделиями Псевдонима, с хлеба на квас, а приличный автор обегал бы его стороной.
Теперь время другое, грамотность всеобщая; не удивлюсь, если как раз Псевдоним озолотит г-на Захарова.
Алессандро Барикко. Шелк
Alessandro Baricco. Seta
Роман / Пер. с ит. Г.Киселева. – М.: Иностранка, Б.С.Г.-Пресс, 2001.
Изданьице прелестное: обложка яркая и твердая, бумага белая-пребелая, шрифт прозрачный. Поля такие, что текстом занята едва ли треть странички. И вот из большой новеллы (около трех авторских листов) получился роман крохотный, однако совсем не тощий.
За границей стать романистом легко; а у нас и «Шинель» – повесть , и «Дуэль» – повесть , и «Крейцерова соната»…
И ремесло критика в Европе, наверное, поприятней: играй, Адель, не знай печали, сочиняй о пустяках – пустяки, в манере издательской аннотации: «пленившая Европу и Америку, тонкая, как шелк, повесть о женщине-призраке и неудержимой страсти…»
Будь я, к примеру, итальянец, – тоже, наверное, сумел бы за чашечкой кофе поворковать о прозе из молчания и воздуха, из паутины внезапных символических жестов. Или о тутовом шелкопряде: как похож его жизненный цикл – все эти метаморфозы – на историю чувства. Причем сама эта бабочка никому не нужна, однако судьбы множества людей зависят от состояния савана (или пеленок) ее личинки. Очень даже глубокомысленная напрашивается параллель.
Или – припомнив, что синьор Алессандро Барикко вообще-то музыкальный критик, нетрудно углядеть в его повествовании черты сонатной, скажем, формы. И в самом деле – не знаю, как с мелодией, а ритм выдержан завораживающий.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Самуил Лурье Полное собрание рецензий [litres] обложка книги](/books/407219/samuil-lure-polnoe-sobranie-recenzij-litres-cover.webp)