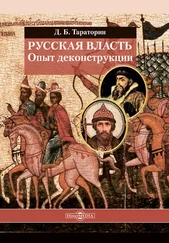Единственная статья, в которой у нас хоть как-то виден Онегин объективно, – это статья Писарева, первая статья из его критической дилогии «Пушкин и Белинский». Статья, в которой от Онегина – и как от героя, и как от текста – фактически не остается камня на камне. Несчастный Дмитрий Иванович Писарев писал эту статью в Петропавловской крепости в одиночном четырехлетнем заключении. А человек несвободный и больной всегда обречен ненавидеть то воплощение свободы и здоровья, каким для нас для всех был Пушкин.
Другое дело, что самого Онегина Писарев увидел абсолютно четко. Онегин, пишет Писарев, безнадежно пустой, совершенно ничтожный человек, предполагать в нем какой-то особый ум из-за того, что ему надоели светские развлечения, весьма наивно. Представьте себе, что вы любите некое блюдо, например пудинг, каждый день с утра пудинг и всё пудинг; разумеется, это надоест независимо, пишет Писарев, от ваших теоретических понятий о пудинге. Иными словами, пресыщенность никого не делает умнее.
Онегин не только не умен, Онегин еще и абсолютно бездушен. И Писарев охотно нам это рассказывает: вспомним эпизод, когда на одной чаше весов сострадание к Ленскому, сознание вины, а на другой – страх перед Зарецким.
К тому ж – он мыслит – в это дело
Вмешался старый дуэлист;
Он зол, он сплетник, он речист.
И из мнения этого кретина, который может распустить слух об онегинской трусости, только из преклонения перед этим мнением Онегин идет на дуэль. И вместо того, чтобы «чувства обнаружить, / А не щетиниться, как зверь», он совершенно спокойно стреляет. И Писарев трижды прав, когда спрашивает, неужели у кого-то найдутся аргументы в защиту этого человека, «безнадежно пустого и совершенно ничтожного».
Вот Пушкин описывает онегинский образ жизни в деревне:
Один, в расчеты погруженный,
Тупым кием вооруженный,
Он на бильярде в два шара
Играет с самого утра.
Какая нечеловеческая, безумная праздность, оскорбительная праздность, говорит Писарев. И в разговоре с Татьяной Онегин ведет себя, как совершенно справедливо тот же Писарев замечает, в тоне довольно султанском. У Пушкина об этом издевательски сказано, «что очень мило поступил / С печальной Таней наш приятель». «Очень мило» – это в трагической ситуации ровно те слова, которые сразу нам всё говорят и о герое, и об авторском отношении к нему.
На чем же основано так долго бытовавшее убеждение, будто Онегин – это пушкинское альтер эго? Или в какой-то степени Пушкин, но без его литературного дара? Или по крайней мере попытка показать думающего героя? Портрет поэта Дмитрия Веневитинова, необычайно красивого, утонченного, талантливого юноши, найденный в пушкинских бумагах, долгое время считался портретом Онегина, хотя ничего общего между любомудром Веневитиновым и пустейшим Онегиным быть не может. И это при том, что у Онегина есть черты, которые сразу должны бы нам сказать, до какой степени он от Пушкина далек. Вспомним: Онегин пытался писать, пытался читать, но все без толку. «И полку с пыльной их семьей / Задернул траурной тафтой». Многие пытаются в этом видеть насмешку Пушкина над современной ему русской литературой – опять-таки трудно представить бо́льшую глупость, поскольку Пушкин живет и работает в обстановке золотого века русской поэзии.
Действие «Онегина» длится, условно говоря, с осени 1821-го по апрель 1825 года, когда происходит объяснение Онегина с Татьяной в восьмой главе. В эти четыре года в русской литературе работают Жуковский, Карамзин. Печатается сошедший с ума в двадцать три года Батюшков. Есть Загоскин, чьими историческими романами зачитывается вся Россия. Лажечников. Есть первые примеры литературной критики. Есть историки – Полевой, Погодин. Но сказать, что это «всё без толку», может только человек, который в принципе бежит от любого умственного напряжения. Так что утверждать, что Пушкин увидел полное ничтожество русской литературы и устами Онегина произнес ей приговор, никаких оснований нет – вся русская литература, в диапазоне от Крылова до Гнедича, ходит если не в пушкинских друзьях, то по крайней мере в приятелях.
Еще одна распространенная точка зрения: Онегин проявил изумительную честность и прямоту в разговоре с Татьяной. Но как раз Татьяна выносит ему в последних строчках романа абсолютно точный приговор:
Не правда ль? Вам была не новость
Смиренной девочки любовь?
И нынче – боже! – стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодный
И эту проповедь… Но вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
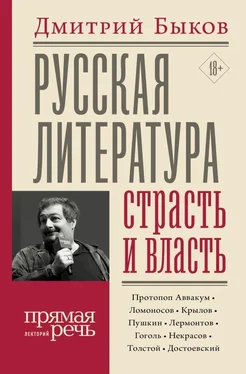
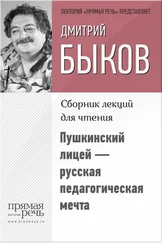


![Дмитрий Быков - Советская литература - мифы и соблазны [litres]](/books/398599/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn-thumb.webp)