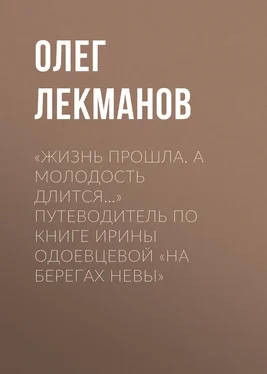Сначала занятия велись в Тенишевском училище на Моховой, д. 5, однако вскоре институт переехал в здание Павловского института на Знаменскую улицу, д. 8. Преподаваемые предметы в итоге были поделены на пять больших групп: философия, теория звука, теория языка, история языка и искусство языка. К этим предметам были добавлены иностранные языки: английский, французский, немецкий и итальянский. Независимо от избранной секции всем слушателям полагались лекции по постановке голоса и театральной дикции. Среди лекторов числились Б.М. Эйхенбаум, Ю.Н. Тынянов, В.Б. Шкловский, С.М. Бонди, А.Ф. Кони, Л.В. Щерба и др. Одним из влиятельных патронов Института живого слова был А.В. Луначарский. Закрылся институт весной 1924 г. Подробнее о его деятельности см.: 36; 76, с. 79–95; 413, с. 1–9.
…небритый товарищ в кожаной куртке, со свернутой из газеты козьей ножкой в зубах. – Характеристика “товарищ”, как и кожаная куртка, – выразительные маркеры представителя новой власти. Козьей ножкой называли самодельную папиросу.
Я протягиваю ему свою трудкнижку… – Первые трудовые книжки были введены в Советской России декретом от 5 октября 1918 г., и выдавались они взамен паспортов, которые советская власть отменила.
С. 26 Я иду домой на Бассейную, 60. – По сведениям краеведа Евгении Дьячковой, в этом доме (ныне ул. Некрасова) семья О. жила в шестикомнатной квартире 78, занимавшей весь первый этаж. В этом же доме в кв. 46 жил надворный советник М.В. Попов (см.: Весь Петроград на 1922 год, с. 232), который, возможно, был родственником первого мужа О. и ее двоюродного брата – нотариуса Сергея Алексеевича Попова (?–1960). Сравните в поздних воспоминаниях О.: “Сергей с восторгом на все согласился, так как с детства был ко мне неравнодушен. И мы действительно повенчались в церкви у Пяти углов. Брак этот был чисто фиктивный, и мне был обещан развод, когда мне заблагорассудится. Жилось мне очень хорошо. В то нелегкое время Сергей зарабатывал очень большие деньги и невероятно разбогател” (288, с. 201). Подробнее о Попове см.: 172, с. 88–91.
С называния своего петроградского адреса начинается “Баллада об извозчике” (1921) О., вошедшая в ее дебютную книгу “Двор чудес” (1922). См. текст этой баллады на с. 624–626.
С. 27 В будущую пятницу лекция Гумилева. Стихов Гумилева до поступления в “Живое слово” я не знала, а те, что знала, мне не нравились. – 15 ноября 1920 г., когда состоялась первая лекция Гумилева в Институте живого слова (355, т. 2, с. 50), пришлось не на пятницу, а на понедельник. Николай Степанович Гумилев (1886–1921) воспринимал преподавание в институте не только как средство для стабильного заработка, но и как продолжение той педагогической деятельности, которую он начал еще в 1911 г. в качестве одного из руководителей первого “Цеха поэтов”. Ее суть заключалась в обучении слушателей искусству писать, а в еще большей степени – воспринимать стихи. Гумилев верил в специальную методику, которая позволит достичь в этом направлении значительных успехов. Отсюда – подчеркнуто ремесленное, рабочее название возглавлявшегося им кружка (“Цех поэтов”), а Институт живого слова на заседании организационного совета, которое состоялось 27 октября 1918 г., Гумилев предлагал назвать “Литературным политехникумом” (76, с. 80).
За два дня до этого поэт, одним из первых среди работников института, представил на аналогичном заседании программу своего курса, получившего в итоге название “Теория поэзии” (413, с. 3), который и пришла слушать О. Вот как вспоминал о гумилевской методологии К. Чуковский: “…курс его был очень труден. Поэт изготовил около десятка таблиц, которые его слушатели были обязаны вызубрить: таблицы рифм, таблицы сюжетов, таблицы эпитетов, таблицы поэтических образов (именуемые им эйдолологией). От всего этого слегка веяло средневековыми догматами, но это-то и нравилось слушателям, так как они жаждали верить, что на свете существуют устойчивые, твердые законы поэтики, не подверженные никаким изменениям – и что тому, кто усвоит, как следует, эти законы, будет наверняка обеспечено высокое звание поэта” (412, с. 274).
Финал комментируемого фрагмента в первой, газетной публикации отрывков из НБН был понятнее для читателя: “Стихов Гумилева, до поступления в «Живое Слово» [50] Здесь и далее особенности употребления прописных и строчных букв в цитатах сохраняются по цитируемому источнику.
я почти не знала, а те, что знала, мне не нравились” (277, с. 4–5).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу