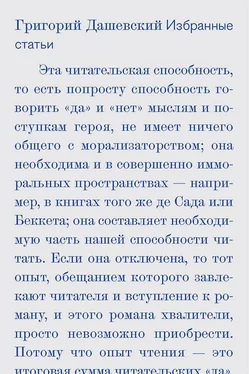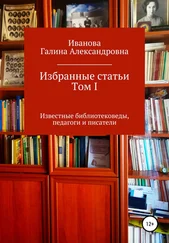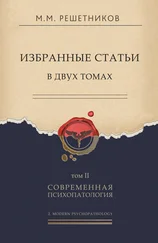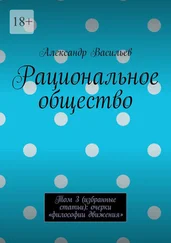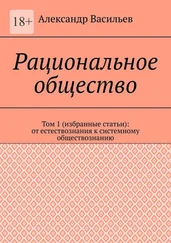Но Георгий Франгулян придал этой вальяжной тени свиту безликих спутников – и в результате вышел памятник не Бродскому, а чему-то совсем другому. Безликость и анонимность – ключевые идеи поэзии Бродского, но вся их парадоксальность и сила в том, что лица и имени лишены не другие, а сам говорящий, сам «я» – «я, иначе – никто, всечеловек, один из». Памятник же все распределяет без всяких парадоксов – одним безликость, другим – лицо и итальянские ботинки. Есть победитель, и есть толпа безликих теней, которым не удалось «пропечататься и остаться». Это уже не Бродский наивных представлений о небесном и нобелевском избраннике, а Бродский, которого любят считать союзником наши защитники идеологии личного успеха. Конечно, их идеология имеет общего с индивидуализмом Бродского одно название, а из его стихов они обычно помнят только строчку «ворюга мне милей, чем кровопийца», которой умеют оправдывать что угодно, включая даже и само кровопийство. Но памятник, который будет стоять на Новинском бульваре, так откровенно изображает деление людей на победителей и проигравших, так простодушно предлагает нам этим делением полюбоваться, что становится памятником не Бродскому, а именно что личному успеху как таковому. Конечно, этот успех здесь переведен в возвышенный экзистенциальный план – но впрямую же памятник богачам и чиновникам в окружении неудачников не поставишь, такой памятник и может быть только метафорическим, только косвенным.
К тому же при всей метафоричности и косвенности смысл памятника легко переводится на язык цифр – нам сообщается, что на 13 безликих и схематичных фигур приходится одна фигура, имеющая лицо и вообще элегантный вид, – иначе говоря, на 93 % неудачников приходится 7 % людей состоявшихся. Вот эти 7 % памятник и прославляет.
май 2011
«Критика из подполья» Рене Жирара
Беседа с Анной Наринской
– До того как начать говорить про эссе Рене Жирара о Достоевском, хочу задать более общий вопрос. Жирар – он про что? Скажем, про Бодрийяра можно сказать, про что он. А про Жирара?
– Про Жирара еще легче сказать, «про что он», чем про Бодрийяра: он очень последовательный, ясный автор, почти мономаньяк. Его путь имеет совершенно четкие этапы. Первый его этап – с начала 60-х до начала 70-х. Тогда самым важным для него было понимание: желание не автономно. Вот человек, например, хочет яблоко и думает, что он хочет его сам по себе – а на самом деле это его отец, или друг, или герой в кино захотели яблоко, и он им подражает. Главный тезис Жирара первого этапа – желание не автономно, оно подражательно, оно, как Жирар говорит, миметично. В 60-е годы, когда желание считалось чуть ли не единственной вещью, выражающей самость человека, когда сложился настоящий культ желания, приведший в конце концов к 1968 году, утверждать такое – значило по-настоящему пойти против течения.
Первую свою большую работу Жирар написал в 1961-м. Она называется «Ложь романтизма и правда романа» – в самом названии уже сформулировано то, о чем мы сейчас говорим. Романтизм – это тот период в европейской культуре, в европейском сознании, когда все оказывается сосредоточенным на этой мнимой автономности человека в выборе желаний, целей и так далее. Романтизм делает из этого будто бы автономного «я» божество и знаменует окончательный переход от традиционного религиозного общества, где божество – это Бог, находящийся над людьми, к тому, чтобы обожествлять свое «я». И главный тезис Жирара в том, что романтизм лжет – потому что, обожествляя себя, люди на самом деле обожествляют другого. Автономия – это мнимость. Она всегда оказывается зависимостью, подражанием, рабством – и об этом как раз говорится в великих романах. Поэтому книжка так и называется: «Ложь романтизма и правда романа».
– Так, это первый этап. А потом?
– Второй этап – это открытие во всех культурах мира следствий, к которым привело это подражательное отношение к другому, а именно – к войне всех против всех. Об этом он говорит в книге «Насилие и священное», которая переведена на русский десять лет назад. Третий этап, выраженный в книге «Козел отпущения», – это исследование того, как христианство вскрыло все эти механизмы и поселило нас в том мире, где мы живем сейчас.
– Эссе «Достоевский. От двойника к единству», вышедшее сейчас в прекрасном переводе Натальи Мовниной, написано в 1963-м. То есть это одна из книг его первого этапа. Достоевский как-то особенно важен для понимания миметической сущности желания?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу