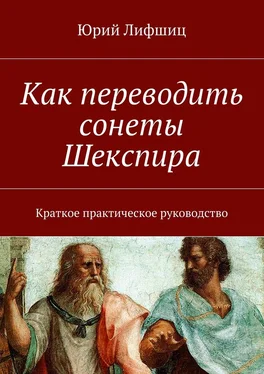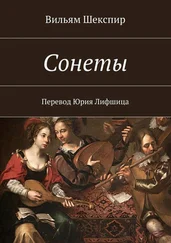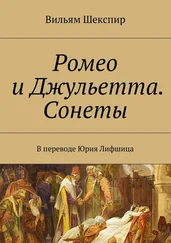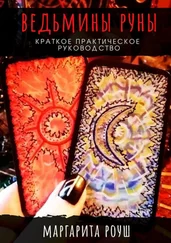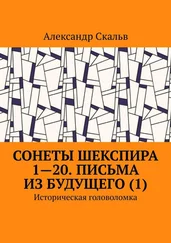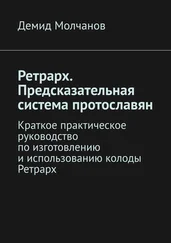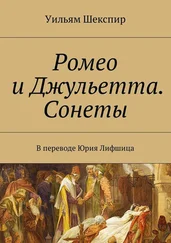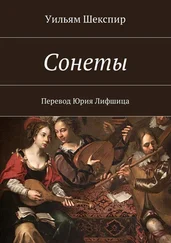Лирический герой Ш стоит посреди бессердечного мира и в ужасе наблюдает за всеми его несовершенствами; они надвигаются на него, они вот-вот поглотят его, и он, не будучи в силах противостоять им, готов покончить с собой. Только одно обстоятельство удерживает его от самоубийства: мысль о том, что его любимое существо, оставшись в одиночестве среди этой безумной вакханалии, не дай Бог погибнет. Причем эта мысль поражает его, как молния, в самый последний момент, когда он едва ли не набросил себе петлю на шею.
Лирический же герой переводчика, тоже вроде бы переживая ужасы быстротекущей жизни, несколько отстраняется от них, то есть его волнуют не столько они, сколько возникающие в его сознании мысли о них. Он вовсе не протестует, он просто констатирует факты, причем делает это, похоже, за чашкой грога. Да, он вроде бы намерен свести счеты с жизнью, но его пока еще не сильно допекли , и он откладывает свое еле ощутимое желание на потом , когда уж совсем будет невмоготу. А тут еще и «другу будет трудно» без него – к чему умирать-то так сразу? Просим заметить: у одного любимое существо остается в одиночестве среди целого «моря бед», у другого ему всего-навсего «будет трудно» без лирического героя. Разница поразительная.
Во-вторых, Пастернак с помощью глаголов вводит своеобразную градацию язв и пороков несовершенного мира. На одни вещи ему «тоска смотреть», за другими – противно «наблюдать», о третьих он не хотел бы «знать», четвертые ему тяжело «видеть», о пятых – нелегко «вспоминать». Хотелось бы уяснить, почему на то, «как шутя живется богачу», автору перевода «тоска смотреть», а за тем, «как наглость лезет в свет», жутко «наблюдать»; о том, «что ходу совершенствам нет», неприятно «знать», а о том, «что мысли заткнут рот», страшно «вспоминать» и т.д.? В чем смысл такого различения? Какова его подоплека? Непонятно.
В отличие от Пастернака Шекспир не в силах на все эти безобразия «смотреть» или за всем этим «наблюдать», – как говорится, глаза бы не глядели! И все. И точка. Тем более что мотив созерцания в оригинале СШ-66 постепенно отходит на второй план, затем и совсем исчезает под натиском зафиксированных в нем гнусностей существования; в переводе, напротив, мотив бесстрастного наблюдения за действительностью подчеркивается буквально каждой строкой.
В-третьих, далеко не ясно, чем это «всем» «измучен» лирический герой перевода. У Ш сказано предельно четко: его герой «до смерти» устал от «всего», что он «видит» вокруг, а именно – и далее по пунктам. У Пастернака все переиначено, в том числе и это. В его переводе под местоимением «все», отнюдь не до конца растолкованном последующим фактическим перечислением, можно понимать вообще все на свете . И пороки, и несовершенства, и трудности, и сложности, и житейские неудобства, и бытовые перипетии. В частности, плохо прожаренное мясо, несварение желудка, мелкий жемчуг, неумелую любовницу, дурную болезнь и т. д.
Знаменательно то, каким образом Ш и Пастернак осуществляют повтор первого полустрочия в 13-й строке. Сперва в оригинале не совсем понятно, чем «всем этим» до смерти расстроен лирический герой. Но 13-я строка СШ подводит итог: герой измучен всем, что перечислено выше . У Пастернака из-за отсутствия разъясняющего местоимения, та же строка вовсе не стала обобщением того, о чем говорилось в предыдущих 12-и стихах, и лирический герой перевода просто повторяет, что он «измучен», как мы уже сказали, буквально всем на свете.
Создается впечатление, что подлинник написан простолюдином, перевод – лордом; первый несовершенствами жизни доведен чуть ли не до самоубийства, второй не более чем раздосадован.
В-четвертых и в-пятых, лексика и синтаксис перевода. О них было бы верней потолковать в надлежащих разделах нашего руководства, но ради полноты картины довершим сличение оригинала и перевода данного СШ не сходя с этого места. Увы, и тут сравнение с Ш не в пользу Пастернака. Первый, говоря о подлинных язвах своего времени, ограничивается понятиями о них, а не конкретными образами: «заслугой, отродясь [живущей] в нищете», «духовным ничтожеством, утопающим в веселье» и т. д. Второй же в отличие от абстракций первого вдается в конкретику: вместо «нищей заслуги» у него «бедняк», взамен «духовного ничтожества» – «богач». То есть Ш обобщает, Пастернак в большей степени рассуждает о частностях. Мы уже не говорим о том, что между образными системами Ш и Пастернака нельзя поставить знак даже приблизительного равенства. И совсем не потому, что Пастернаку глянулись образы, так сказать, из плоти и крови, а в том, что он не выдерживает своей установки на конкретику до конца. Вслед за «бедняком» и богачом» у него следуют даже не образы, а констатация фактов в виде глаголов («и доверять, и попадать впросак»), после чего – среднее арифметическое между абстракцией и конкретикой: «наглость» (абстракция) конкретно «лезет в свет»; «честь девичья» натурально «катится ко дну» и пр. Таким образом, перевод лишается интерпретационной цельности, образуя мешанину образных решений.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу