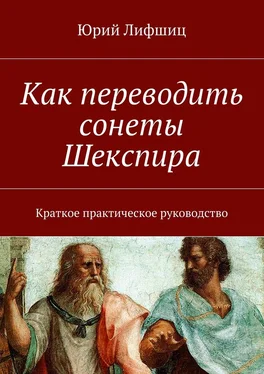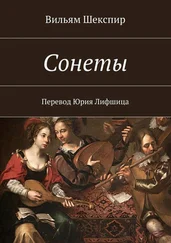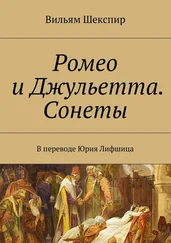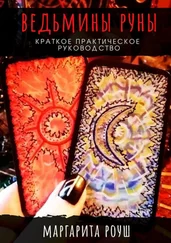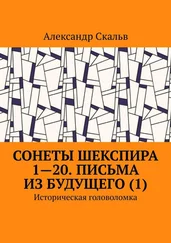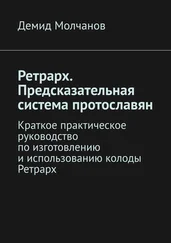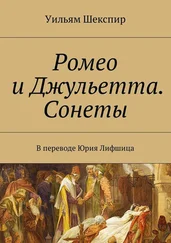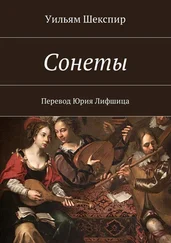Подводя краткий итог, заметим: едва ли не у каждого ПСШ можно обнаружить вышеупомянутые и противоположно ориентированные огрехи, но более рассуждать об этом предмете мы не станем, ибо сказанного вполне достаточно. Добавим только, что никакие теоретические разработки, в изобилии пылящиеся на полках личных и публичных библиотек, еще никому не помогли стать переводчиком и помочь не в состоянии, а если им следовать, то ничего, кроме неразберихи, в работу ПСШ это не внесет. У каждого автора со стажем имеется своя, собственная, особенная, персональная, индивидуальная, отшлифованная временем и практикой теория перевода СШ, и не было случая, чтобы она сгодилась кому-то еще, помимо хозяина.
Не бывает никаких теорий!
Интерпретация текста и отсебятина
К вопросу о буквализме и вольности в переводе вплотную примыкает проблема интерпретации (трактовки, истолкования) текста СШ и связанные с нею сложности с употреблением отсебятины, без которой не может обойтись ни один ПСШ. Интерпретация текста находится в ведении серьезной науки под названием герменевтика, названной так по имени олимпийского бога торговли Гермеса, ибо тот по совместительству трудился вестником и, передавая священную волю Зевса и прочих олимпийцев тем или иным смертным или бессмертным, не мог не истолковывать приказы и распоряжения вышестоящей инстанции. Изложение постулатов герменевтики легко найти в соответствующей литературе, мы же ограничимся лишь двумя-тремя существенными моментами, почерпнутыми, впрочем, не столько из нее, сколько из практики древних, новых и новейших литературных толмачей.
Говорить, однако, много не приходится. В рамках данного пособия долгие рассуждения по поводу возможных истолкований СШ способны только затемнить и без того не слишком светлое дело переложения лирики Ш на русский язык. Поэтому будем предельно кратки.
Необходимо доверять переводимому автору, то есть Ш; он должен быть или стать авторитетом для переводчика СШ; проще говоря, интерпретатор обязан любить или полюбить своего автора, – это во-первых. Во-вторых, следует истолковывать текст шекспировского цикла, исходя из самого текста , а не привносить в его трактовку привходящие, не относящиеся к делу частности и обстоятельства. В-третьих, исследуя текстовые хитросплетения СШ, нужно попытаться проникнуть в их глубину, понять не только то, что сказал Ш, но и то, что он хотел сказать, что он подразумевал под тем или иным словом, выражением, фразой или риторическим оборотом. В-четвертых, необходимо научиться вслушиваться в вопросы , задаваемые текстом, – а всякий текст, тем более подернутый дымкой времени-пространства, задает массу вопросов, – и попытаться, как мы уже говорили, найти на них ответы в самом тексте, каковой, в свою очередь, каждым своим словом, порою каждым знаком вопрошает своего истолкователя и т. д. Возникает своеобразный диалог, и здесь, чем шире контекст, в который погружается ПСШ, изучая полюбившиеся ему СШ, тем полнее, глубже и точнее могут быть интерпретированы их тексты.
Любовь к тому или иному автору – вот лучший творческий метод для перевода его произведений, лучшая теория, позволяющая искать и находить в них то, что оказывается недоступным для индифферентных профессионалов, переводящих что угодно, лишь бы им было заплачено за работу. (Одной любви, к сожалению, тоже маловато будет, и это наглядно доказывают бесчисленные опусы любителей, порою начисто лишенные зачатков какого бы то ни было ремесла.)
Классические образчики нелюбви к великому стратфордцу сотворены классиком же русской литературы Б. Пастернаком, чьи шекспировские переводы настолько же ловко исполнены, насколько равнодушно искажены. И эта гремучая смесь – ловкости и равнодушия – опустошила их, выхолостила, разодушевила, лишила мощи, свежести и очарования.
Вот, к примеру, одна из многих погрешностей мэтра, до сих пор не замеченная либо сознательно не замечаемая многочисленными исследователями его творчества (развитие темы филологического всепрощения – ближе к финалу настоящего пособия). Строчка из переведенного им СШ-73: «Во мне ты видишь то сгоранье пня…», – означает не что иное, как «Во мне ты видишь… горящий пень». В высокой лирике, как известно, вполне допустимо сравнение человека с деревом, стволом, даже с отрубленной веткой, но чтобы с горящим пнем, – это едва ли не единственный случай в русской литературе. (За литературу других народов мы не отвечаем. Возможно, австралийские аборигены или африканские пигмеи обожают сравнивать человека с недовыжженными останками эвкалипта или пальмы соответственно.) Другое дело, если бы в сонете говорилось о совсем уж дряхлом старце, пожелавшем назвать «старым пнем» самого себя, но ведь в подлиннике об этом и слова нет. Да и синтаксически данный перевод начинается как-то не совсем гладко: стих «Во мне ты видишь то сгоранье пня» так и подмывает продолжить следующим образом: «то не сгоранье пня» (во мне ты видишь). Кроме того, разбираемая нами строка получилась бы куда более ладной, если частицу «то» заменить на местоимение «такое». Хотя и в этом случае получается невнятица: выходит, «сгоранье пня» может быть и не таким ?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу