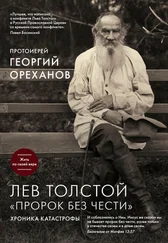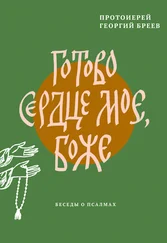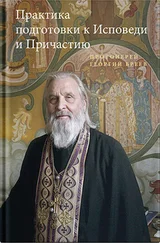В России духовенство и дворянство культурно были фактически противопоставлены в первую очередь по типу воспитания и образования, что очевидным образом отразилось уже в начале XIX в. в весьма презрительном оттенке слова «семинарист» [59] Живов В. М. Кощунственная поэзия в системе русской культуры конца XVIII – начала XIX века // Из истории русской культуры. – Т. IV (XVIII – начало XIX века). М., 2000. С. 737–738.
. Тот же вывод будет справедлив и по отношению к монашеству. Вспомним, Ф. М. Достоевский в своем последнем романе говорит о том, что слово «инок» «произносится в наши дни у иных уже с насмешкой, а у некоторых и как бранное» (ДПСС. Т. 14. С. 284). А известный публицист Н. П. Гиляров-Платонов, сам выходец из духовной среды, определил духовенство как «униженное» и «запуганное» сословие, «на которое сама государственная власть смотрит с презрением» и которое «отбивается от обязанности воспитывать народ» [60] Гиляров-Платонов Н. П. «Жизнь есть подвиг, а не наслаждение…». М., 2008. С. 169, 171.
.
 Гиляров-Платонов Н. П. (1824–1887) – философ и публицист, выпускник МДА (1848), издатель и редактор газеты «Современные известия» (1867–1887).
Гиляров-Платонов Н. П. (1824–1887) – философ и публицист, выпускник МДА (1848), издатель и редактор газеты «Современные известия» (1867–1887).
Фактически в России противостояние духовного сословия и интеллигенции воспринималось как противостояние двух совершенно чуждых друг другу реальностей. Во всяком случае, именно так определяла проблему З. Гиппиус: «мы» и «они», два разных мира, совсем разные культуры, причем разные вовсе не по уровню образования, не по происхождению, не по глубине и проницательности, а по тому, что мы сейчас часто называем ментальностью [61] Гиппиус З. Н. Воспоминания о религиозно-философских собраниях // Наше Наследие. 1990. № IV (16). С. 68. В книге П. В. Басинского приводятся очень показательные статистические данные, демонстрирующие полное равнодушие русских людей даже к такому важному социальному проекту, как «Дом трудолюбия» прот. Иоанна Кронштадтского: 90 % сумм, пожертвованных на это учреждение, были внесены самим отцом Иоанном. См.: Басинский П. В. Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды. М. 2016. С. 146.
. Примечательно при этом, что очень многие представители интеллигенции по своему происхождению были выходцами именно из духовного сословия.
Равнодушие к Церкви и глубокое недоверие к ее служителям было связано с другими проявлениями кризиса – с полным равнодушием к церковной догматике и литургической жизни.
Действительно, даже среди людей, сохранявших большой интерес к религиозной жизни, часто происходила значимая подмена. Истинный, духовный смысл церковного христианства либо полностью игнорировался, либо, уже в крайних случаях, приобретал болезненную окраску. В этой ситуации уже не может удивлять мнение столь просвещенного человека, как Н. Н. Страхов (в прошлом семинариста), который указывает в письме Л. Н. Толстому, что, по его мнению, христианство вместило в себя все религии, в том числе и буддизм, и отозвалось на все запросы сердца, но понимать его уже невозможно – буддизм и магометанство понятнее [62] Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов: Полное собрание переписки. Т. I. С. 402.
. В другом письме Н. Н. Страхов подчеркивает, что ему всегда казалась непонятной и дикой идея личного бессмертия и был противен мистический восторг большинства религиозных людей. С его точки зрения, альтернативой этой, по его мнению, ложной религиозности, является установка на выполнение слов Христа: «Любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас. И это я понимаю. Как хорошо предаваться добрым движениям души, из которых иных я, бывало, стыдился!» [63] Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов: Полное собрание переписки. Т. II. С. 552–553.
.
В сознании русских людей возникает своеобразный разрыв – Церковь мыслится уже не только как Царство не от мира сего, но как институт, предъявляющий современникам абстрактные и непонятные требования.
 «Призывы Церкви перестали ныне действовать на людей, вера обратилась во что-то внешнее, в форму, обряд, почти без признаков духа жизни; перестали даже думать, чтобы вера могла иметь какое-либо действительное участие в жизни».
«Призывы Церкви перестали ныне действовать на людей, вера обратилась во что-то внешнее, в форму, обряд, почти без признаков духа жизни; перестали даже думать, чтобы вера могла иметь какое-либо действительное участие в жизни».
Федоров Н. Ф. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. М., 1999. С. 505.
Выходом из этой ситуации, как для образованного меньшинства, так и для крестьянского большинства, был поиск новых типов духовности, «новой контрмифологии» (В. Н. Ильин), противостоящей евангельской. Эта новая духовность, по выражению протоиерея Георгия Флоровского, представляла собой все более выраженные формы моралистического сектантства, духовной и богословской «робинзонады» [64] Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. С. 406.
.
Читать дальше
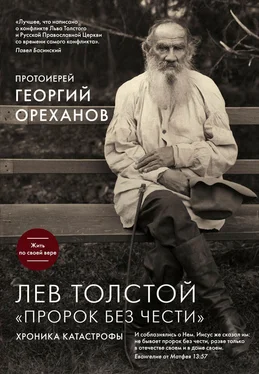
 Гиляров-Платонов Н. П. (1824–1887) – философ и публицист, выпускник МДА (1848), издатель и редактор газеты «Современные известия» (1867–1887).
Гиляров-Платонов Н. П. (1824–1887) – философ и публицист, выпускник МДА (1848), издатель и редактор газеты «Современные известия» (1867–1887). «Призывы Церкви перестали ныне действовать на людей, вера обратилась во что-то внешнее, в форму, обряд, почти без признаков духа жизни; перестали даже думать, чтобы вера могла иметь какое-либо действительное участие в жизни».
«Призывы Церкви перестали ныне действовать на людей, вера обратилась во что-то внешнее, в форму, обряд, почти без признаков духа жизни; перестали даже думать, чтобы вера могла иметь какое-либо действительное участие в жизни».