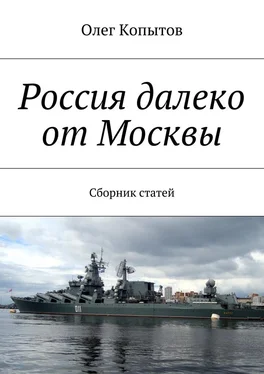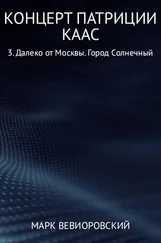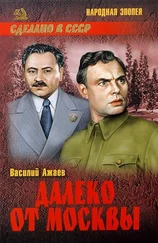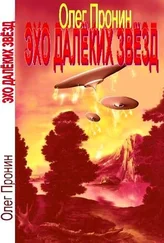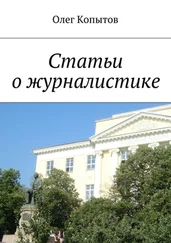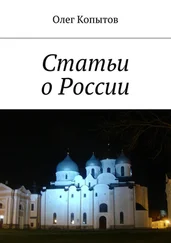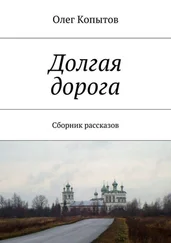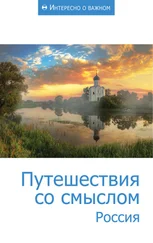Ответ В. Т.: «Так было всегда. Отношения «столица – провинция» проблемны по определению. Это объективно, поскольку у Москвы есть возможности, которых больше нет нигде. Ну как реализоваться, допустим, таланту певца, если в его родном ауле нет оперного театра? Для живописца, литератора, в принципе, должно быть по-другому: рисовать, писать книги можно где угодно, ещё не известно, где работа будет плодотворней. Но уже тут – противоречие между столицей и провинцией, неестественное и зловредное. Провинция непрезентабельна. Надо художнику выставляться, писателю издаваться; нужна раскрутка, без которой и самый выдающийся мастер обречен на безвестность и, по большому счету, невостребованность. Москва из-за этого тянула к себе: там, если человек не пропадал совсем (многие пропадали), он имел шанс стать «великим», нередко вне зависимости от силы дарования. «Удачи» порой добивались и бездари – благодаря другим качествам, не имеющим отношения к творчеству. Подобное происходило и в науке, и практически во всех областях человеческой деятельности, в том числе в управленческой. В итоге получалось так: исподволь провинция интеллектуально, культурно и т. д. обескровливалась, а в Москве толкались локтями и в немалом числе пожирали друг друга в борьбе за место под солнцем славы, которой на всех желающих никогда не хватит.
Между тем, столица во всех смыслах тем мощнее, чем мощнее страна, именно – глубинка, кровью которой питаются культурные и прочие центры.
При старом прижиме, не знаю, вольно или невольно, это все-таки учитывалось властью. Существовали неплохо отработанные механизмы поиска и поддержки провинциальных умов. Начиная от всяких там физико-математических олимпиад, разнокалиберных конкурсов народных талантов и заканчивая, применительно к литературе, системой региональных, ведомственных и прочих семинаров и совещаний вплоть до Всесоюзного совещания молодых писателей. Трудно, но все-таки было возможно начинающему провинциальному автору появиться в солидном центральном журнале и даже издать книгу. А главное – всё это читалось по всей стране и, значит, работало на формирование народной души. Сегодня ничего подобного нет. Можно, наверное, говорить о полной разрухе в означенном деле. Более того, беда умножается, по меньшей мере, странной государственной политикой в области культуры вообще и литературы в частности (А это Москва всецело!). Эта политика либо отсутствует, либо направлена… против культуры и литературы. Свидетельства тому – смешные тиражи книг, которые просто не доходят до периферии, неуправляемость и неэффективность книгораспространения, а следствие – превращение самой читающей страны в страну, стремительно теряющую духовность и даже элементарную грамотность.
Москва стала действительно далеко, она ушла в свои тусовки и озабочена исключительно собственными (надо сказать, зачастую весьма сомнительными) потребами. По высочайшему примеру и по малым своим возможностям, остальные культурные центры тоже замкнулись в себе и плохо знают, что творится за пределами их географических границ. Литература стала дискретной, прежнего единого духовного, культурного пространства уже не существует. Между тем, потребность в нем именно теперь стала огромной. Это вопрос не только сохранения великого наследия великой культуры – это один из первейших вопросов сохранения самого народа – носителя этой культуры. Я убежден, что дело обстоит именно так. И, слава Богу, становятся заметны попытки какого-то возрождения, причем исходят они, прежде всего, из глубинной России, из той самой провинции, которая Москве, вообще-то, до лампочки. Очень хочется верить, что это не навсегда, что у нашей культуры есть будущее – есть будущее у народа и страны. Сегодня это будущее, увы, меньше всего связано с Москвой, но… как во все времена, увы-увы, больше всего от нее и зависит.
Противостояние бесперспективно. Нужно искать пути объединения усилий. Первое здесь – осознание происходящего. Провинция, по-моему, больше в нем преуспела. Столице следовало бы не только питаться ее хлебушком (во всех значениях), но и прислушаться к ней, и пойти за ней. Если так не будет, то другого просто не дано».
И, наконец, довольно яркие и четко сформулированные оценки культурного и нравственного «вырождения Москвы», художественные варианты спонтанно-естественного (не политического!) протеста Большой Сибири – пространства восточнее Урала, против этого вырождения (тянущего за собой всю Россию!), мы нашли в повести Михаила Тарковского «„Тойота-Креста“ и другие» 3 3 М. Тарковский. «Тойота-Креста» и другие: повесть. Часть 1 // Дальний Восток, №1, январь-февраль 2009. – Хабаровск, 2009. – С. 3—48; М. Тарковский. «Тойота-Креста» и другие: повесть. Часть 2 – авторская рукопись в «портфеле» редакции журнала «Дальний Восток», план выпуска – конец 2010 г.
. Причем уже знакомыми из вышесказанного методами мы устанавливаем определенную тождественность голоса главного героя повести – сибирского шофера, поэта и интеллектуала Жени, и автора – Михаила Тарковского. Совсем без доводов не обойдемся, приведем лишь два. Один поступок и одно высказывание. Внук поэта Арсения Тарковского и племянник кинорежиссера Андрея Тарковского Михаил Тарковский 20 лет назад уехал из Москвы и живет охотой в сибирской деревеньке Бухта, пишет прозу. Высказывание: « Я скучаю не по Москве, ее уже не узнать, – по близким людям, которые там живут. Хотя каждую зиму летаю в столицу. Теперь она – большой рынок. Само понятие „москвич“ изменилось. Больше трех недель прожить в Москве не могу – давить начинает. Кажется, другое пространство, другой воздух » («Неизвестная Сибирь», №1, 2008, с. 76).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу