Но как перевести или перенести явление, открывшееся зрению, в умозрение и словесное описание? – Трактат Лессинга Лаокоон содержит в себе подробное объяснение границ, разделяющих сферыизобразительных и словесных искусств, и очевидный факт сюжетно-тематического сходствапроизведения изобразительного искусства (скульптурной группы «Лаокоон») и словесного описания поэта (Вергилия) нужны Лессингу, чтобы показать фундаментальные различиядвух языков: изображения как непосредственной презентации, показакартины или скульптуры – и описания,словесной ре-презентации.Основной текст трактата рассматривает границы, разделяющие сферы этих двух искусств, а комментарии и примечания к трактату содержат многочисленные примеры экфразисов на темы скульптурной группы или картины «Лаокоон». По Лессингу, экфразис рассказывает, как поэт переживает картину, изображающую происшедшее событие, как воспринимает показанное на картине и, наконец, как повествует, рассказывает о пережитом и увиденном моменте жизни, навсегда застывшем в камне у скульптора или на живописном полотне у художника [19].
Достоевский не читал Филострата, но с трактатом Лессинга был знаком [20]. Свидетельство тому – обзорная статья «Выставка в Академии художеств за 1860–1861 год», большая часть которой посвящена разбору жанрового полотна В.И. Якоби «Партия арестантов на привале». Статья была опубликована анонимно в «Критическом обозрении» журнала Время, 1861, № 10, в первом разделе которого продолжалась публикация Записок из Мертвого Дома (гл. VII–IX). Как отмечено в комментариях, статья о выставке «явилась в журнале в эпоху яростных споров внутри Академии и вне ее стен о перспективах развития современного русского изобразительного искусства» (19,318) [21]. В заключительной части обзора, касаясь картин, выполненных по мотивам литературных произведений, Достоевский говорил о реальных или литературных источниках и средствах изображения, которыми располагают художники: «Некоторые живописцы пользуются уже готовым содержанием и выполняют его как задачу… В нынешнем году… есть три подобные картины: "Весталка", по г-ну Полонскому, "Капитанская дочка", по Пушкину, и "Фауст с Мефистофелем", по Гете. Едва ли когда-нибудь такого рода вещи могут быть удачны. В произведении литературном излагается вся история чувства, а в живописи – одно только мгновение. Как же тут быть? Очень просто: или написать пять или десять весталок, то есть ту же весталку в пяти или десяти оттенках чувств, или не браться за невозможное дело» (19, 168). Комментаторы находят в этом саркастическом выпаде парафраз из Лаокоона , а Р.Ю. Данилевский уточняет, что Достоевский читал Лессинга по переводу Е.Н. Эдельсона [22].
25-летний дипломант Академии Художеств В.И. Якоби на выставку 1860–1861 представил работу «Партия арестантов на привале», написанную в этом же году. Не анонсируя этого как участник академического конкурса, он решился выполнить ее не по классическим образцам, а по мотивам Записок из Мертвого Дома. В свою очередь, анонимный обозреватель (а им был сам Достоевский) не посчитал возможным указывать на очевидную для него сюжетную зависимость работы Якоби от Записок из Мертвого дома. но свое отношение к живописи, не идущей дальше «копирования», высказал откровенно: «В зеркальном отражении не видно, как зеркало смотрит на предмет, или, лучше сказать, видно, что оно никак не смотрит, а отражает пассивно, механически. Истинный художник этого не может; в картине ли, в рассказе ли… непременно будет виден он сам, он… выскажется со всеми своими взглядами, с своим характером, с степенью своего развития…… В старину сказали бы, что он должен смотреть глазами телесными и, сверх того, глазами души или оком духовным». (19,153–154). И далее, обратив «глаза души» к своим же Запискам из Мертвого дома, по контрасту перечисляет натяжки и передержки, которые, «гоняясь… за правдой фотографической», допустил Якоби в своей картине.
Работа «Последняя весна», изображающая девушку, преждевременно умирающую от чахотки, дает рецензенту возможность задать художникам, не понимающим значения «границ между живописью и поэзией», другой вопрос, уходящий корнями в теории Лессинга и Филострата: «как изображать ужасное»? – Если вспомнить беседы, в которые князь Мышкин вовлекает своих собеседников, станет очевидным: на страшные зрелища, не поддающиеся нравственному оправданию, нужно смотреть «глазами души», и только так и тогда становится возможным «изображение» неизобразимого. Предлагая Аделаиде в качестве сюжета картины сцену гильотинирования. Мышкин дает ей понять: художник должен проникать своим понимающим и сопереживающим взглядом в то, что переживает другой. Тогда зрелище смертной казни преобразится в изображение, содержащее в себе незабываемый рассказ о непостижимой тайне бытия и небытия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
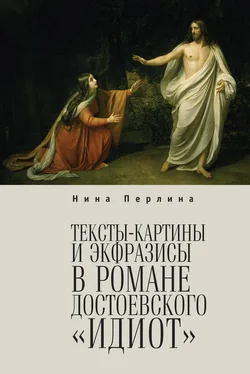
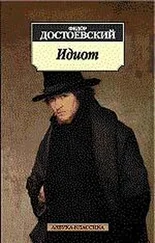
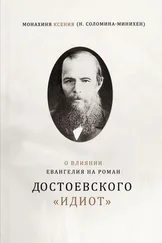


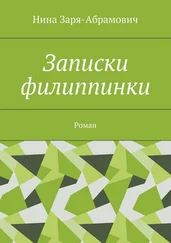
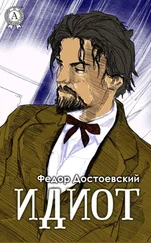
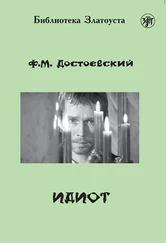
![Федор Достоевский - Идиот [litres]](/books/429285/fedor-dostoevskij-idiot-litres-thumb.webp)

