1 ...6 7 8 10 11 12 ...42 Экфразис как категория диалогического межвидового цитирования
В пределах авторского текста цитата является средством перевода с одного индивидуального языка на другой с сохранением и намеренным акцентированием главных признаков обоих идиолектов. Экфразис, как специфический речевой жанр и вид повествовательного дискурса осуществляет перевод с языка живописно-пластических искусств на язык словесности путем межвидового диалогического цитирования [27]. Возникновение рассказа из межвидового цитирования может быть проиллюстрировано «Картиной» Филострата «Скамандр»:
«Узнал ли ты,мальчик, вэтой картине рассказ Гомера, или о немты совсем не думаешь,и потому, конечно, считаешь за чудо, как это в воде может гореть огонь?… Вероятно, ты знаешь то место из Илиады , где Гомер заставляет Ахилла воспрянуть, чтоб мстить за Патрокла, а боги готовы двинуться в бой… Всех других рассказов о битве богов не касается наша картина;она только нам говорит, как на Скамандра напал могучий Гефест, сильный "пламенем чистым небесных огней". Смотри опять на картину, отсюда поймешь ты и всё остальное» [28].Продолжая объяснять, что именно должен понять ученик по увиденному на картине, наставник опускает само описание иссякновения вод божественного потока ( Илиада , 21: 305–384) [29].
Словесные цитаты из Гомера в текст не введены, сохраняются только указания-сноски на 21-ю песнь Илиады , благодаря чему Филострат и заканчивает объяснение картины словами: «Всё это совсем не так, как дано у Гомера». Средствами экфразиса Филострат помещает созданный им новый текст – картину в семантически расширившийся, многопланный и многосмысленный объемлющий контекст. Об «энаргее», т. е. жизненности, зрительной убедительности экфразисного повествования, которое помогало как бы воочию увидеть, передать и осмыслить то, что не может быть открыто физическому зрению, опираясь на картину «Скамандр», писал Гете [30]. Нам неизвестно, читал ли Достоевский письма и дневники Гете, скорее всего, он не был с ними знаком [31]. Тем большее значение тогда приобретает тот факт, что и в отчетах о посещении годовых выставок в Академии художеств, и в ряде статей о русской литературе, в полемике с критиками, защищавшими принципы эмпирико-прагматического утилитаризма (физиологии, бытовые очерки, зарисовки натуральной школы) Достоевский обращал особое внимание на «жизненность», жизненную убедительность антологической поэзии и картин-стихотворений, которые Добролюбов и его единомышленники решительно не принимали и считали за образцы «чистого искусства». Достаточно указать на статью «Г-н – бов и вопрос об искусстве», где вслед за обсуждением ценности (но не утилитарной пользы, а эстетического значения) таких образцов медитативно-созерцательной поэзии как «Шепот, легкое дыханье», следует глубоко проникновенное истолкование той преобразующей силы, которую несет в себе «жизненность» картин-стихотворений. На языке Достоевского «жизненность, энтузиазм» и есть энаргея экфразиса. «Жизненность» позволяет извлечь из забвения, выдвинуть, поставить перед глазами и сделать зримыми, ценностно важными «вековечные идеалы» красоты, связать их «с общечеловечностью, с настоящим и с будущим, навеки и неразрывно… Мы знаем одно стихотворение, которое можно почесть воплощением этого энтузиазма, страстным зовом, молением перед совершенством прошедшей красоты и скрытой внутренней тоской по такому же совершенству, которого ищет душа, но должна еще долго искать и мучиться в муках рождения, чтоб отыскать его. Это стихотворение называется "Диана"». «Вот оно», – пишет Достоевский, цитированием удваивая силу воздействия стихотворного экфразиса Фета. – «Последние две строки этого стихотворения полны такой страстной жизненности, такой тоски, такого значения, что мы ничего не знаем более сильного, более жизненного во всей нашей поэзии» (18, 96–97). Далее будет показано, что акцентирование моментов узнавания преобразующей животворной силы красоты лежит в основе всех проникновенных изъяснений князя Мышкина о тайне и загадке красоты, которая «спасет мир».
К выдержкам из Филострата, Лессинга и работам современных филологов и историков искусств о нарративно-описательной структуре экфразиса следует добавить статью Лео Шпитцера «"Ода к греческой урне", или Содержание vs. Метаграмматика» (1955), в которой дается суммарное определение экфразиса: «поэтическое описание картины или скульптуры, которое предполагает достигнутое путем словесных средств воспроизведение чувственно воспринимаемых объектов искусства – "транспозицию" изобразительного объекта, "поэтическую картину"». В работе показано, что экфразисная транспозиция является металингвистическим средством передачи «содержания» эстетического объекта [32]. Структурно-семантический механизм транспозиций Шпитцер раскрыл в статье 1948 г., «Лингвистический перспективизм в Дон-Кихоте» [33]. Сервантес (показывает Шпитцер) развернул сложную сеть лингвистических метаграмматических и метапоэтических комментариев и медитаций по поводу изображения героя разными повествователями, претендующими на авторство или указывающими на их прямое или косвенное знакомство с бедным идальго Кихано, который, начитавшись разных рыцарских романов, вообразил себя странствующим рыцарем Дон Кихотом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
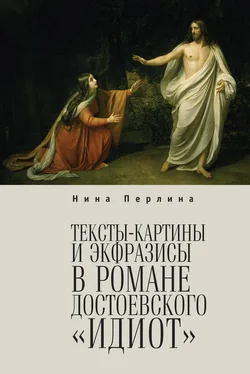
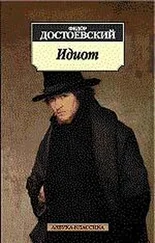
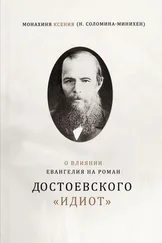


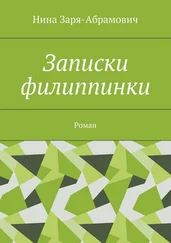
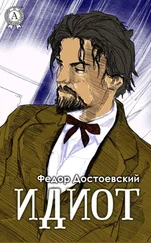
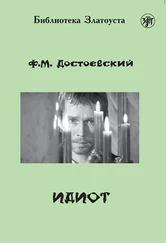
![Федор Достоевский - Идиот [litres]](/books/429285/fedor-dostoevskij-idiot-litres-thumb.webp)

