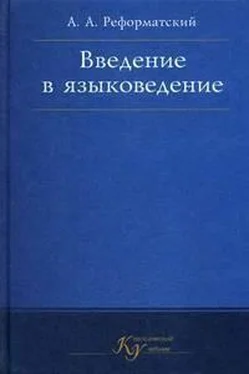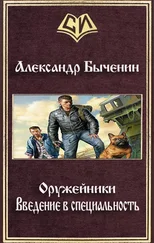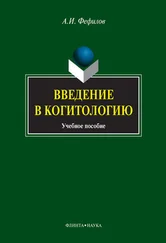Во французских грамматиках такие вопросительные частицы называются les pronoms interrogatifs, т. е. «вопросительные местоимения».
Супплетивизм – от латинского suppleo, suppletum – «пополнять», «дополнять».
Latum исторически из tlatum, ср. fuli.
Ср. остаток этой формы в поговорке: «Все мы люди, все мы человеки».
См. наличие этого слова у Гоголя в «Сорочинской ярмарке».
Аффиксации фузионная и агглютинирующая очень различны в этом отношении, есть основания агглютинирующую аффиксацию причислять к аналитическому типу (см.: Поливанов Е.Д. Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком, 1934).
Настоящие повторы отнюдь не словосочетания, а удвоенные формы слов.
Синтетический – от греческого synthetikos (synthesis – «сочетание, составление») – «получающийся в результате синтеза», «объединяющий».
Аналитический – от греческого analytikos (analysis – «развязывание», «разрешение») – «получающийся в результате анализа», «разъединяющий».
Последнее в латинском языке не обязательно, что лишний раз подчеркивает самостоятельность слова в синтетическом латинском языке.
В сложном предложении, например в том же латинском языке, есть особые явления, не вытекающие из синтетических свойств слов, например «согласование времен» (consecutio temporum).
Так называемые «окончания множественного числа» во французском– s, — ent и т. п. – факты письма и орфографии, а не языка; множественное число внутри французского слова не выражается.
Такие случаи в английском, как child [tʃaild] – «ребенок», children [tʃildren] – «дети», – редкое исключение, где при различении числа налицо и внешняя флексия (нуль – en), и внутренняя ([ai] – [I]) (см. § 48).
Конечно, и в этом отношении бывают отклонения и противоречия; так, в немецком артикль – явление аналитическое, но он склоняется по падежам, – это синтетизм; множественное число существительных в английском выражается, как правило, один раз, – явление аналитическое, но то, что это выражается фузионной аффиксацией, – синтетизм и т. п.
Категория – от греческого kategoria – «доказательство», «показание»; применительно к мышлению, языку, искусству – основные разряды, группы явлений в данной области.
Античная филология знала другое деление грамматических фактов: части речи и их акциденции (у имен существительных – род, число, падеж; у глаголов – наклонение, время и т. п.) (акциденции – от латинского accidens, accidentis – «случайный»).
Попытка некоторых лингвистов обосновать некий «верхний этаж» над грамматикой в виде «понятийных категорий» не привела ни к чему, кроме игнорирования специфики отдельных языков и их групп; «понятийные категории» не приводят к пониманию грамматики, а уводят от нее.
Употребление числительных один, одна, одно, одни тоже может служить в русском выражением неопределенности (как артикль un во французском, еin в немецком и т. п.); в северных русских говорах, наоборот, для выражения определенности употребляется местоименная частица: от, та, то, те после слова (дом–от, изба–та, окно–то, грибки–те и т. п.).
Различение грамматических категорий одушевленности и неодушевленности ни в коем случае не следует смешивать с «пониманием» различия «живого» и «неживого»; так, в русском языке слова покойник, мертвец входят в категорию одушевленности, слова народ, пролетариат – в категорию неодушевленности.
См.: Драгунов А. А. Исследования по грамматике современного китайского языка, 1952. С. 10 и сл.
Там же. С. 12.
См.: Драгунов А. А. Исследования по грамматике современного китайского языка, 1952. С. 7.
Синтаксис – от греческого syntaxis – «составление».
От греческого, искусственно построенного термина syntagma – буквально: «нечто соединенное». В советской лингвистике этот термин применяется в разном значении. Одни – вслед за М. Граммоном– понимают под синтагмой ритмически объединенную группу слов, обладающую смысловой законченностью (Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, А. Н. Гвоздев, А. В. Бельский и другие, см. статью: Виноградов В. В. Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка // Вопросы синтаксиса современного русского языка, 1950); другие считают, что это не фонетическое, а синтаксическое явление. Синтагму можно ритмически и линейно разбить, вставив между ее членами иные слова, не входящие в синтагму, но синтаксически синтагму разорвать нельзя (см.: Томашевский Б. В. О ритме прозы // О стихе, 1929; Карцевский С. О. Повторительный курс русского языка, 1928; Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Русский пер., 1955. С. 114 и сл., а также: Фортунатов Ф. Ф. Сравнительное языковедение, общий курс // Избранные труды, 1956. Т–1. С. 182–183, где то же явление обозначено как словосочетание, однако этот термин шире термина «синтагма». Ф. Ф. Фортунатов первый назвал термином «словосочетание» то грамматическое явление, которое здесь обозначено «синтагмой»).
Читать дальше