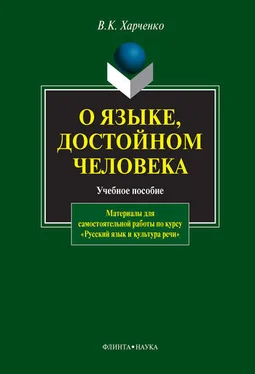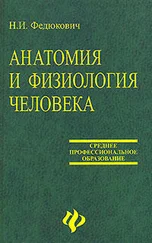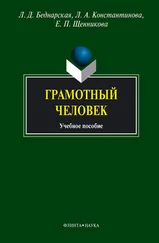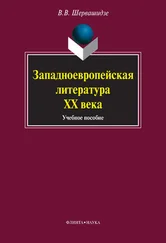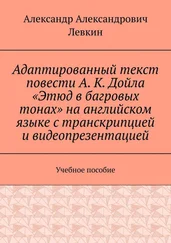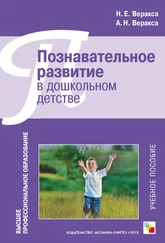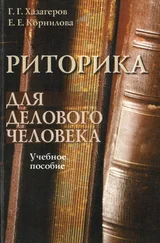• И совершенно по-особому она [Анастасия Цветаева] читала стихи. С ясной, глубокой мелодией, временами напоминающей по звуку виолончель. Свидетельствую: так читала она в Амстердаме залу, где мало кто понимал по-русски, но слушали завороженно» (Юрий Гурфинкель // Октябрь. 2008. № 8. С. 175).
Теперь возьмем всего одно произведение – роман Ф.М. Достоевского «Идиот» – уникальный учебник по культуре речи и культуре поведения. Выпишем несколько фрагментов, как говорит князь Мышкин в различных ситуациях речи. Сопоставим эти отрывки с комментарием исследователя В.Ф. Погорельцева и с отрывком из воспоминаний дочери Ф.М. Достоевского.
– Уверяю вас, что я не солгал вам, и вы отвечать за меня не будете. А что я в таком виде и с узелком, то тут удивляться нечего: в настоящее время мои обстоятельства неказисты.
– Помилуйте, я ваш вопрос очень ценю и понимаю.
– Ну и черт с ним! Ну, так как же, вы, князь, довольны или нет? / – Благодарю вас, генерал, вы поступили со мной как чрезвычайно добрый человек, тем более что я даже и не просил; я не из гордости это говорю; я и действительно не знал, куда голову приклонить.
– А вам и не стыдно! Разве вы такая, какою теперь представлялись. Да может ли это быть! – вскрикнул вдруг князь с глубоким сердечным укором.
– Я говорю правду, – отвечал князь прежним, совершенно невозмутимым тоном, – и поверьте: мне очень жаль, что это производит на вас такое неприятное впечатление.
– Ничему не могу научить, – смеялся и князь, – я все почти время за границей прожил в этой швейцарской деревне; редко выезжал куда-нибудь недалеко; чему же я вас научу? Сначала мне было только нескучно; я стал скоро выздоравливать; потом мне каждый день становился дорог, и чем дальше, тем дороже, так что я стал это замечать. Ложился спать я очень довольный, а вставал еще счастливее. А почему это – довольно трудно рассказать. (Ф.М. Достоевский «Идиот»).
«Некоторые люди даже вежливостью желают подчеркнуть свое превосходство над другими. Князю [Мышкину] это чуждо... <...> За вежливостью скрывается талант нравственной точности, когда этичность поступка или речевого действа проявляется как бы автоматически» (В.Ф. Погорельцев). «Ни в одном из других романов Достоевского [как в романе «Идиот»] не рассыпаны так щедро слова “вежливый”, “приличный”» (В.Ф. Погорельцев). «Вежливое отношение не только к младшим и старшим, но – к детям. Он вежлив со всеми. С Колей. С Настасьей Филипповной. Когда к ней прибыли от модистки наряды, он все хвалил, и от похвал она становилась еще счастливее» (В.Ф. Погорельцев*). За вежливостью скрывается талант нравственной точности, когда этичность поступка или речевого действа проявляется как бы автоматически. «Но именно «как бы»: такое поведение рождается вследствие неустанной работы над собой. Без нее не может быть человека, с которым хорошо жить и действовать заодно» [43].
«Они грубо смеялись и толкали друг друга локтями, как только услышали первые слова князя Мышкина; но когда он продолжал говорить, они перестали смеяться. Его восхитительная вежливость, отсутствие снобизма, та естественность, с которой он обращался с ними, как с равными, как с людьми его круга, позволили им предположить, что перед ними чрезвычайно удивительное и редкое существо, истинный Христос» (Л.Ф. Достоевская).
Таким образом, «вышколить» голос, приобрести изысканную интонацию, навсегда отказаться от раздражительности и грубости можно, ориентируясь на тексты художественной литературы. Здесь и помогает та самая персоносфера, о которой шла речь в предыдущей главе.
Вопрос: А есть ли интонация молчания?
Ответ: Термин «интонация» широко используется, сейчас говорят даже об интонации скульптуры. А что касается молчания, то приведем одну зарисовку с натуры: «Более слушает, чем говорит. Но молчит уважительно, а не по той причине, что собеседники ниже его уровнем – умеет молчать» (Д. Каралис // Нева. 2007. № 12). Строго говоря, при бездействии интонации более нагруженными, значимыми становятся культура взгляда, культура выражения лица, а также культура позы, движения. «В учебниках танцев подробно описывалось даже выражение лица, приличествующее благородному человеку: чуть приподнятый подбородок, прямой взгляд, означающий «приятную веселость», полуулыбка, при которой зубы остаются закрытыми. Самый интересный эффект такого канонического изображения – таинственность мерцающего взгляда на портретах XVIII века, что связано с известным приемом следящего зрачка» (Иностранная литература. 2003. № 6. С. 256).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу