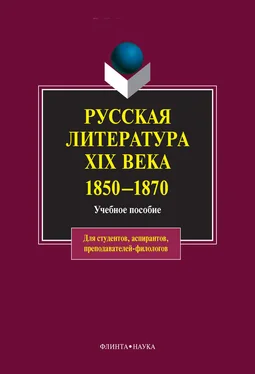В стихотворении 1860 г. «На Волге» этот мотив будет воспроизведён почти дословно:
– О юность бедная моя!
Прости меня, смирился я!
Не помяни мне дерзких грёз,
С какими, бросив край родной,
Я издевался над тобой!
Сюжетно эти стихи затем резко меняют регистр. От неподдельного умиления родной рекой герой после встречи с бурлаками переходит к скорбному описанию их участи. Потрясающе передан диалог смертельно усталых людей, крупным планом нарисован незабываемый портрет «угрюмого, тихого и больного» бурлака Даже на фонетическом уровне здесь ощутим надрыв, который в финале стихотворения вновь приведёт героя к проклятиям («И в первый раз её назвал / Рекою рабства и тоски!..») и риторическим вопросам: «Чем хуже был бы твой удел, / Когда б ты менее терпел?» Но характерно, что теперь Некрасов чётко различает понятия милой родины с её живительными для души токами и социальной несправедливостью. Они могут накладываться друг на друга, порождать горькие размышления, но эта горечь не будет развиваться в лирике Некрасова в ущерб любви. Скорее любовь к отчизне станет по-русски горькой и (прав Дружинин!) совершенно лишённой ненависти. Эта любовь даст ему возможность показать не только перевернувший мир ребёнка эпизод с бурлаками, но и простодушную поэзию детства, ранее игнорированную Некрасовым в автобиографических текстах.
Если вернуться к мотиву любви-ненависти, то и здесь зрелый Некрасов постепенно смягчается. И не потому, что поводов для негодования стало меньше, а оттого, что душа устала от собственной непримиримости. Так, в стихотворении «Надрывается сердце от муки…» (1863) поэт ищет успокоения от внутренних страданий в «матери-природе»: «Заглуши эту музыку злобы! / Чтоб душа ощутила покой / И прозревшее око могло бы / Насладиться твоей красотой». Под «музыкой злобы» Некрасов, безусловно, имен в виду социальную агрессию, но в контексте других его признаний можно предположить, что процесс освобождения от тёмных эмоций, издёрганности шёл как извне, так и изнутри. Только душевный покой делает око «прозревшим», способным ценить земную красоту. Более того, наступает он чаще всего тогда, когда измученная страданиями душа готова расстаться с земными оковами. Лаконично и предельно ясно эта мысль отражена в одном из предсмертных стихотворений:
Скоро – приметы мои хороши —
Скоро покину обитель печали:
Вечные спутники русской души —
Ненависть, страх – замолчали.
(1877)
Борьба с самим собой продолжалась и на смертном одре… Эти настроения поэт нередко дарил своим ролевым героям.
Крестьянин из стихотворения «Зелёный шум» (1862) полон «думой лютой», правда, уже не по общественному, а глубоко личному поводу – оскорблён изменой жены. Некрасов даёт возможность и ему пережить исцеление весной, природой. Весенний шум поёт ему изумительную песню: «Люби, покуда любится, / Терпи, покуда терпится, / Прощай, пока прощается, / И – Бог тебе судья!»
Эти слова позволяют нам перейти к тем некрасовским мотивам, которые не были всерьёз востребованы его современниками и о которых всё чаще говорят в наши дни. Это религиозные ноты в его творчестве. Некрасов вращался среди людей маловерующих и атеистов, но глубокая вера его матери, её удивительная кротость, вероятно, породили и нечто иное, чем бунтарские настроения. В некрасовских стихах часто слышны отголоски евангельских мотивов.
Он выявляет в своих «заступниках народных» черты бескорыстной жертвенности. Таковы упомянутые выше стихотворения «Памяти приятеля» (1853), «В.Г. Белинский» (1855), потрясающая по силе надгробная эпитафия «Памяти Добролюбова» (1864), «Не рыдай так безумно над ним…» (1868, насмерть Писарева). Весьма показательно, что этот ряд заканчивается стихотворением о Н.Г. Чернышевском («Пророк», 1874), где гражданский подвиг писателя напрямую сравнивается с жертвой Христовой. Конечно, по отношению к реальному прототипу, революционеру и атеисту, такое сравнение вряд ли уместно. Но ведь Некрасов создавал свой идеал гражданина. А настоящий идеал всегда чем-то похож на Христа. Некрасов в своём неверии ушёл вовсе не так далеко, как, быть может, хотелось некоторым из его окружения. Библейские притчи были у него на слуху, он неоднократно использовал в своих текстах евангельские аллюзии, причём с художественной точки зрения всегда уместно и убедительно (даже в случае с Чернышевским). Как подлинно народный поэт, он был особенно чуток к настроениям простых людей и не мог не отразить все оттенки их отношения к вере.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу