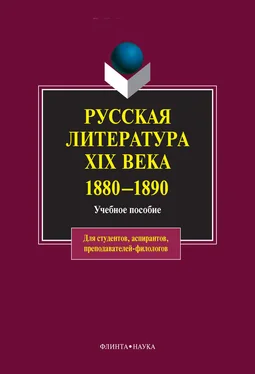В отличие от английской и французской литература Германии играла меньшую роль в творчестве Пушкина Среди своих современников он высоко ценил Гофмана. Но особым уважением окружено в письмах и статьях, особенно со второй половины 1820-х гг., имя Гете как величайшего поэта, воплощения «объективного» начала. Наиболее значительный отклик на трагедию Гёте – «Сцена из Фауста» (1825) Пушкина, написанная ещё до завершения второй части великого шедевра. Пушкин предложил свое оригинальное видение фаустовской темы, усилив мрачность, бесцельность исканий главного героя.
Интереснейшую страницу русско-польских связей составляют непростые творческие взаимоотношения Пушкина и Мицкевича. Личное знакомство двух величайших поэтов – русского и польского – состоялось в октябре 1826 г., а в мае 1828 г. Мицкевич присутствовал на чтении Пушкиным «Бориса Годунова», после которого польский поэт заметил, что Пушкин будет «Шекспиром, если позволит судьба». Их встречи продолжались до мая 1829 г., когда Мицкевичу было разрешено выехать за границу. В 1828 г. Пушкин перевёл начало поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод» («Сто лет минуло, как тевтон…»), а в 1833 г. его баллады «Три Будрыса» (у Пушкина «Будрыс и его сыновья») и «Дозор» (у Пушкина «Воевода»). Образ польского поэта отразился в стихотворении Пушкина «В прохладе сладостной фонтанов» (1828) и в некоторых других произведениях.
Мицкевич горячо солидаризировался с польским восстанием 1830–1831 гг. Пушкин же, напротив, осудил те силы на Западе, которые поддержали Польшу, ответив им в стихотворениях «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Это определило в дальнейшем резкие расхождения политических позиций Пушкина и Мицкевича. Вместе с тем Мицкевич видел в России близких ему людей, противостоящих официальной власти, декабристов (стихотворение «Русским друзьям»). Полемикой с Мицкевичем, утверждением исторической роли Петра была одушевлена поэма Пушкина «Медный всадник». В стихотворении «Он между нами жил…» (1834) Пушкин тепло вспоминает о годах дружбы с Мицкевичем, говорившим о грядущем братстве народов. Но «…наш мирный гость нам стал врагом – и ядом / Стихи свои, в угоду черни буйной / Он напояет…». Мицкевич, однако, уже после гибели Пушкина, в лекции о славянских литературах, прочитанной во Франции, говорил, что голос Пушкина «…открыл новую эру в русской истории».
В России были популярны также западноевропейские поэты радикально-демократической ориентации, особенно Беранже и Генрих Гейне. «Беранже есть царь французской поэзии, самое торжественное и свободное её направление», – писал Белинский. Социальную направленность Беранже акцентировали Герцен, Добролюбов, Чернышевский. Среди переводчиков Беранже были те, кто составляли цвет русской поэзии, в частности, И. Дмитриев, А. Григорьев, Л. Мей, А. Фет; среди них были и поэты «некрасовской» школы – М. Михайлов и В. Курочкин.
Не будет преувеличением сказать, что как поэт Генрих Гейне нашел в России свою вторую родину. Если в радикальных кругах он воспринимался как «барабанщик» революционного действия, то для широкого читателя оставался прежде всего певцом природы и проникновенным лириком.
Сильным увлечением Белинского был Купер, популярность которого в России 1830—1840-е гт. была, пожалуй, выше, чем у него на родине. Белинский сравнивал Купера с Шекспиром, называл Купера и Вальтера Скотта «двумя великими исполинами-художниками», отмечал мощный эпический размах, широкую картину действительности, наполненную поэзией и верностью жизни в цикле о Кожаном Чулке. Во время посещения Лермонтова, арестованного за дуэль с Э. Барантом, в Ордонансгаузе в апреле 1840 г. Белинский беседовал с ним, в частности, о Купере. Его приятно порадовало совпадение взглядов на Купера, когда Лермонтов во время этой беседы заметил, что «…Купер выше Вальтер Скотта, что в его романах больше глубины и больше художественной целости» (письмо Белинского к В.П. Боткину от 16–21 апреля 1840 г.).
Среди кумиров русской публики была и Жорж Санд, особенно популярная в 30—40-е гг. Белинский, один из её горячих пропагандистов, писал о Ж. Санд в патетическом стиле, имея в виду роман «Мопра»: «Сколько глубоких практических идей о личном человека, сколько светлых откровений благородной, нежной, женственной души». Он назвал писательницу «гениальной». С этой оценкой солидаризировался Салтыков-Щедрин. Герцену принадлежит проницательный отзыв о романе «Орас», в котором писательница создаёт окрашенный иронией образ мниморомантического, глубоко эгоистического по своей сути персонажа. В 1850—1860-е гг. популярность Ж. Санд заметно снижается; к этому времени писательница уже прошла пик творческой активности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу