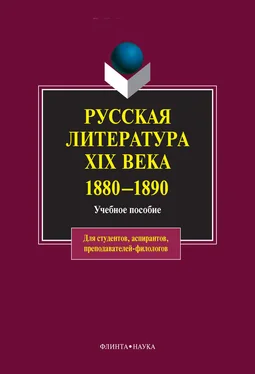Среди любимых Пушкиным греческих поэтов был, конечно же, и Гомер. Пушкин высоко отзывался о работе Н.И. Гнедича, переводчика «Илиады», обращаясь к переводчику со словами: «С Гомером долго ты беседовал один».
Вообще тема «русский Гомер» многогранна. Освоение гомеровского эпоса началось в России с М.В. Ломоносова. С восторгом отзывался Гоголь о переводе Жуковским «Одиссеи» (1847). Жуковский полагал перевод своим наиглавнейшим созданием, памятью о себе отечеству. Критики сравнивали поэму Гоголя «Мёртвые души» по её масштабу с «Илиадой».
Пушкин хорошо знал древнеримскую литературу, многие произведения читал ь подлиннике. Пребывание Пушкина в южной ссылке, в частности в Бессарабии, позволило ему по-новому прочувствовать и судьбу Овидия, и природу его творчества: ведь недалеко от тех мест, где жил Пушкин, томился в изгнании автор «Метаморфоз». В 1821 г. Овидий стал для Пушкина поистине «властителем дум». Исследователи правомерно выделяют «овидиев цикл» стихов Пушкина («Из письма к Гнедичу («В стране, где Юлией венчанный…»)», «Чаадаеву («В стране, где я забыл тревоги прежних лет…»)», «К Овидию» и др.). В последнем из этих стихотворений – «К Овидию» – Пушкин высказывает глубокий взгляд на судьбу римского поэта: «Как часто, увлечён унылых струн игрою, / Я сердцем следовал, Овидий, за тобою!». В одном из автографов стихотворения читаем: «Не славой – участью я равен был тебе». Образ Овидия возникает в поэме Пушкина «Цыганы», в которой устами старика-цыгана изложено бытовавшее в Бессарабии предание о поэте: «Имел он песен дивный дар / И голос, шуму вод подобный…». Пушкинский Евгений Онегин увлекался «наукой» «страсти нежной, которую воспел Назон…». Любовь к Овидию, пронесённая через всю жизнь, характеризует и собственный творческий гений Пушкина.
Наряду с «певцом любви» Овидием, Пушкину был близок и Катулл с его светлой, жизнерадостной тональностью. Он сделал вольный перевод его стихотворения «Виночерпию»: «Пьяной горечью Фалерна…»
В сфере художественного внимания Пушкина находилось также творчество замечательного римского историка Тацита, которого он называл «бичом тиранов», «великим сатирическим писателем».
Среди латинских поэтов Пушкина привлекал Гораций (Фет называл его «Римским Пушкиным»). Он импонировал Пушкину своим «литым», классически ясным стихом, своей сатирой, «тонкой, легкой, весёлой». Пушкин сделал ряд переводов из Горация, в основном вольных (например, оды «К Меценату»). Оригинальным образом пересоздан текст Горация, его 30-й оды «К Мельпомене», в стихотворении Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». В пушкинском шедевре – блеск, экспрессия, глубоко личная интонация, иногда скрытая полемика с Горацием. И конечно же, свободолюбивый пафос, отсутствующий у Горация.
К середине 1820-х относится увлечение Пушкина Шекспиром, изучение его драматургии, начатое в Одессе и продолженное в Михайловском. Его отзывы о Шекспире неизбежно восторженны: «…Но до чего изумителен Шекспир! Не могу прийти в себя!» – пишет он к Н.Н. Раевскому-сыну в июле 1825 г. из Михайловского. А в набросках предисловия к трагедии «Борис Годунов» Пушкин отмечает: «Шекспиру подражал я в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении типов…». Написанная вскоре после «Бориса Годунова» поэма «Граф Нулин» (1825) также навеяна чтением Шекспира.
Сравнивая принципы изображения человеческих характеров в драматургии классицизма и у Шекспира, Пушкин в одной из заметок отмечает: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков. У Мольера Скупой скуп – и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен». В типологии «вечных образов» скупцов (Эвклион у Плавта, Шейлок у Шекспира, Гарпагон у Мольера, Гобсек и Гранде у Бальзака) есть и замечательные, многогранные фигуры, созданные русской литературой («скупой рыцарь» – барон Филипп Пушкина, Плюшкин Гоголя, Иудушка Головлёв Салтыкова-Щедрина).
Необычайно щедра история «русского Байрона », его переводов, подражаний, критического освоения. Байронизм как литературное настроение имел сильный отзвук в России, особенно среди поэтов пушкинской эпохи (Кюхельбекер, Батюшков, Веневитинов, Дельвиг, Козлов и др.). Байронизм решительно сказался и у молодого Лермонтова, который, при всём своем увлечении английским поэтом, его личностью и судьбой, писал: «Нет, я не Байрон, я другой, / Ещё неведомый избранник, / Как он гонимый миром странник, / Но только с русскою душой». По мере развития таланта Лермонтова байроновские мотивы и образы приобретают у него всё более оригинальную, самобытную интерпретацию.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу