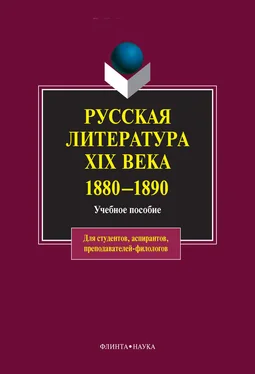В 1895–1896 гг. поэт издаёт и свои собственные (а не «коллективные») книги: «Chefs d’oeuvre» (франц. «Шедевры») и «Me eum esse» (лат. «Это – я»), В «Шедеврах» Брюсов играет подчёркнутым эгоцентризмом, вызывающе затрагивает эротические мотивы, разрабатывает экзотические образы и сюжеты, впервые обращается к урбанистической теме. Книгу «Шедевры» поэт называет сборником своих «несимволических стихотворений», однако по-прежнему с дерзостью заявляет, что адресована она не современникам: «Не современникам и даже не человечеству завещаю я эту книгу, а вечности и искусству». Публикация стала новым скандалом, причём, как вспоминает поэт, против него восстали даже те, кто «торопили» его напечатать эту книгу. Прежде всего, его упрекали в самоупоённом выпячивании своего «Я». Отвечая на критику в стихотворении «По поводу Chefs d’oeuvre» (1896), он допускает, что, возможно, книга была «ошибкой», но оценить её «правду» может лишь он один. Одиночество непонятого художника сближается с одиночеством пророка, возвещающего новую истину: «Правду их образов, тайно великих / Я прозреваю один».
Возможно поэтому в книге «Это – я» преобладают более сдержанные, камерные настроения, по преимуществу окрашенные пессимистически. Однако название-символ и здесь служило именно самоутверждению. Не случайно эту лексику и интонации подхватит затем футурист Маяковский (например, его первый сборник назван «Я»).
Мотив творчества становится для Брюсова определяющим в эти годы. Так, цикл «Juvenalia» ( лат. «Юношеское»), собранный из ранних стихотворений для первого тома «Полного собрания сочинений и переводов» (1913), открывался «Сонетом к форме»(1895). В нём подчёркивается важность творческой формы, способной сохранить красоту для вечности:
Так образы изменчивых фантазий,
Бегущие, как в небе облака,
Окаменев, живут потом века
В отточенной и завершённой фразе.
Прославление художественной силы звучит и в стихотворении «Юному поэту» (1896). Это манифест и самого Брюсова, уже осознающего себя «мэтром» – «мастером-учителем». Поэт с магической властью заповедует:
Юноша бледный со взором горящим,
Ныне даю я тебе три завета:
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее – область поэта.
Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздельно, бесцельно.
Характерно, что закрепившееся за Брюсовым определение «мэтр» – «мастер» перекликается с оккультным, масонским званием «мастер ложи». Для него тема творчества не была частной, одной из лирических тем, в духе хрестоматийной пушкинской «темы поэта и поэзии», а выражала суть его многотемного художественного мира. Навеянный ницшеанским сверхчеловеком культ сильной личности, героя мифологии или истории, был выражением его собственного творческого «Я», синтезировался в фигуре Поэта.
Философско-эстетические взгляды конца 90-х гг. раскрываются в брошюре «Об искусстве» (1899). Брюсов приходит к убеждению о правомерности существования в мире множества истин, которые могут противоречить друг другу, но в этом многообразии для него и заключается источник жизненной и творческой силы, пафос его антропоцентрического художества.
В 1900 г. в издательстве «Скорпион» выходит книга « Tertia vigilia» ( лат. «Третья стража»), объединившая стихотворения 1897–1900 гг. Она ознаменовала отход от декадентского эгоцентризма и расширение образно-тематических направлений. В поэтический мир активно входят история, мифология, современность. В цикле «Любимцы веков» возникают образы сильных, «творческих» в широком смысле личностей – «Ассаргадон» (1897), «Халдейский пастух» (1898), «Жрец Изиды» (1900), «Александр Великий» (1899), «Скифы» (1899) и др. Во всех этих произведениях образ лирического «Я» высвечивается через аналогию с героем древности.
Обозначается в книге тяготение к поэзии самоутверждающейся мысли. Эстетическое кредо автора – самоценное творчество, не зависимое ни от каких внешних факторов. Художник предстает самовластным хозяином во всем, что касается его мира. Лейтмотив и образная система сборника формируется стихотворением 1899 г. «Я». Поэт формулирует свой творческий символ веры:
И странно полюбил я мглу противоречий
И жадно стал искать сплетений роковых.
Мне сладки все мечты, мне дороги все речи.
И всем богам я посвящаю стих.
Это движение к многообразию мира определило семантику его следующей книги. Она вышла в 1903 г. и объединила произведения 1900–1903 гг. «Urbi et Orbi» ( лат .) именуется пасхальное послание Папы Римского, преемника престола святого Петра. К «Граду и миру» обращается со своим благословляющим, творящим словом Поэт. Книга получила программное значение для всей поэзии начала XX в.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу