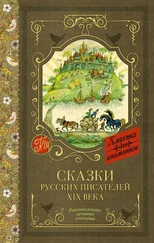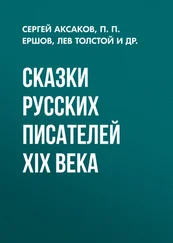Но над полями воздух был прозрачен, лужи синели глубокой синевой, кой-где пробивалась яркая молодая зелень. Мы прилегли над одной из таких лужиц, синевшей в ложбинке и отражавшей синеву неба и тихо двигавшиеся по ней белые облака. Откинувшись на спину, мы лежали на сыроватой прошлогодней мураве и смотрели вверх. Не хотелось вставать, не хотелось говорить, двигаться. Только глядеть туда, кверху, где продвигаются белые, легкие облачка, да дышать этими весенними веяниями, что проносятся свежими острыми струями. Да еще слушать… Что? Ничего в сущности… Какой-то звон, идущий будто из-под земли, яркие трели жаворонка, к которому уже прислушался, так что почти их не замечаешь, отдаленный крик вороны, накликающей дождь. Из лужи слышны еще два голоса. Один низкий, но звонкий, полный и мелодичный. Другой повыше, но такой же глубоко печальный Какие симпатичные, полные грусти голоса… И подумать, что издают их две лягушки. О чем это они грустят, на что жалуются?.. И невольно вспоминается старая нянина сказка. Да, только она, несчастная царевна, прекрасная, как сияние майского дня, может жаловаться на судьбу так мелодично, так трогательно и задушевно. Она, превращенная злым колдуном в самое отвратительное из животных, с холодной кожей, с зелеными глазами на выкате. Что может быть ужаснее – любящая душа и отвратительная оболочка?.. Мне вспомнилась она – с такой же прекрасной душой, как у несчастной царевны, и с безобразным лицом. Я задумался о ней под продолжавшиеся жалобы лягушки и забыл обо всем. Я только смотрел в синюю лужу… В одном месте на ней шли легкие круги. Что-то вздувалось там, вода вздрагивала, черный бугорок всплывал на поверхность, мелодичный стон проносился в воздухе, неизвестно откуда, неизвестно где замирал, – и круги на воде тоже замирали, а лягушка скрывалась, чтобы мы, слышавшие ее голос, не могли видеть ее безобразия.
И она также ушла в свою нерадостную темную кожу, и давно уже улеглись круги, которые она подняла когда-то в окружающей жизни» (т. 1, с. 131–132)
Функция дневника как места для творческих заготовок писателя пересекалась с социальной направленностью деятельности Короленко. Темперамент общественного деятеля, правозащитника, публициста не всегда находил выход в открытых выступлениях в силу цензурных запретов и статуса поднадзорного и неблагонадежного литератора. Далеко не все замыслы автора «Бытового явления» могли осуществиться в обычной для человека его профессии форме. И дневник оказался «запасным» объектом их реализации. В нем мы найдем как законченные публицистические высказывания, так и короткие записи-наброски задуманных, но так и не написанных статей («Несколько слов о казанской цензуре», «Характерная полемика», «Обновленный уезд»).
В отличие от умеренного, сдержанного тона газетно-журнальных выступлений Короленко страницы тематически близких записей дневника пронизаны едкими инвективами в адрес власть предержащих – от мелких чиновников до царствующих величеств. Писатель высмеивает как частные явления, так и пороки всей государственной системы. По смелости выражения все они не могли претендовать на публикацию в современной периодике: «<���…> Россия застонала под дубовым, мстительным режимом Александра III <���…> Это был второй Николай I по отсутствию чутья действительности и по непониманию обстоятельств. Он знал одно: против всякого положения «либеральной эпохи» он выдвигал противоположение, где только мог <���…> Он уже не видел, не слышал ничего, что делается в России, – отупевший слух не улавливал голоса измученной земли. Он умер – к великому счастию России» (т. 2, с. 319); «Эта полицейская весна – истинный символ нашей русской жизни. Произвол и реакция всюду доходят до естественного предела, покушаясь роковым образом остановить даже простейшие движения общественных отправлений «большинства обывателей», как было сказано в корреспонденции о перлюстрации писем в Нижнем» (т. 3, с. 145).
Таким образом, компенсаторно-заместительная функция дневника, обычная для данного жанра, приобретает у Короленко социально-политическую направленность, далеко отстоит от интимно-бытовой сферы и психологических детерминант.
Новые элементы видны и в пространственно-временной организации записей. «География» охваченных дневником явлений – самая обширная из всех образцов жанра у русских писателей. По масштабам она сопоставима разве что с дневниками В.А. Жуковского. Писательская наблюдательность и репортерская оперативность позволили Короленко включить в свою летопись все самое примечательное из виденного, слышанного и прочувствованного. Короленко самостоятельно развивает ту общежанровую тенденцию в области дневникового хронотопа, которая наметилась в последнее двадцатилетие века и нашла яркое выражение еще в дневнике И.С. Тургенева 1880-х годов. Сущность ее заключается в соотнесенности близких по времени событий, происходящих в пространственно далеких точках. Такую разновидность хронотопа мы назвали континуальной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
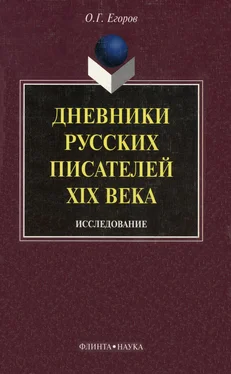


![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)