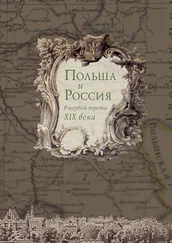В 1820-е гг. Мур прочно вошел в сознание представителей русской литературной среды, причем, как верно отмечает М.П.Алексеев, в различных вариациях мимо творческого наследия Мура "не мог пройти ни один русский крупный писатель целого столетия и множество писателей второго плана" 2. Данная методологическая посылка, основанная на многолетних фактологических разысканиях, позволяет сделать вывод о сложном и многообразном характере восприятия творчества Томаса Мура в России. В целом филологической наукой русская рецепция Томаса Мура признается ярким историко-литературным феноменом, соответствовавшим тенденциям русско-английского межкультурного взаимодействия и имевшим на различных этапах литературного развития свою неповторимую специфику. Обращение русской романтической литературы 1820–1830-х гг. к творчеству Томаса Мура, рассматриваемое в настоящем исследовании, было первым и крайне значимым этапом восприятия сочинений английского романтика в России. Пожалуй, никогда более произведения Мура не получали в России таких эмоциональных, проникнутых искренним восхищением, а потому и крайне субъективных оценок, как в романтическую эпоху.
Большинство ранних переводов поэзии Томаса Мура на русский язык были прозаическими, в чем, впрочем, проявилась общая тенденция эпохи. Известно, что в 1822 г. в рецензии на осуществленный В.А.Жуковским стихотворный перевод "Шильонского узника" Дж.—Г.Байрона П.А.Плетнев признавал порочность данной тенденции: "До сих пор на русском языке мы читали некоторые сочинения лорда Байрона в прозаических переводах. Известно, что поэзия, передаваемая прозою, точно то же, что музыка в устах человека, который ее слушал и который ее пересказывает" 3. Появление в прозе поэтических сочинений Дж.—Г.Байрона, Т.Мура, В.Скотта может быть объяснено тем, что данный способ переложения художественного оригинала был существенно более легким, нежели собственно поэтический перевод. Действительно, стихотворные переводы нередко появлялись уже после прозаических, становясь тем самым новым этапом в процессе ознакомления российской публики с творчеством зарубежного писателя. Однако в данном случае можно назвать и другую, существенно более объективную причину: большинство ранних переводчиков Байрона и Томаса Мура не владели английским языком и потому использовали французские переводы произведений английских романтиков в качестве посредников. Французская литература при этом активно практиковала прозаические переводы английских поэтических первоисточников. Таким образом, во многих случаях русские переводчики не имели реальной возможности воссоздать утраченную при переложениях на французский язык поэтическую форму английского оригинала.
Значимым показателем популярности поэзии Томаса Мура в России стало включение её уже во второй половине 1820-х гг. в программы учебных заведений, использование на уроках английского языка. В Московском университетском благородном пансионе, где обучались М.Ю.Лермонтов, Д.П.Ознобишин и некоторые другие ценители творчества Томаса Мура, придавалось большое значение изучению иностранных языков (французского, немецкого, английского, итальянского), причем на ежегодных торжественных актах учащиеся произносили речи на этих языках. Среди прочих следует назвать речь однокашника Лермонтова М.М.Иваненко, произнесенную на английском языке во время торжественного акта 1830 г., – в этой речи были подробно рассмотрены художественные особенности творений Томаса Мура 4. Среди достоинств «Ирландских мелодий» М.М.Иваненко отмечал гармонию стиха, нежность патриотического чувства, согласованность поэтического мировосприятия с национальной музыкой, характерное свободолюбие, не терпящее беззаконий и угнетения, однако вместе с тем признавал и некоторые слабые места в произведениях поэта, в частности, недостаточную выпуклость национального колорита, когда стихи не содержат никаких местных особенностей, кроме упоминания о родной Ирландии. Как видим, несмотря на свой юный возраст, пансионер М.М.Иваненко смог довольно тонко почувствовать характерные особенности поэтического мира Томаса Мура. И в этом, бесспорно, можно усматривать не только его заслугу, но и определенное влияние преподавателей пансиона, их профессионализма и художественного вкуса.
«Ирландская» тема в русской периодике, во многом связанная с событиями общественно-политической жизни Ирландии, бурно развивавшимися в интересующий нас временной период, отчасти основывалась и на материалах русской рецепции творчества Томаса Мура, на что обратила внимание Г.А.Баужите 5. Став свидетелем подавления национально-освободительного движения ирландского народа, Томас Мур придал своим ранним произведениям цикла «Ирландских мелодий», еще не приобретшего окончательную, завершенную форму, особую элегическую тональность, через которую проступало глубокое разочарование в реалиях жизни. Постепенно обретая устойчивую и длительную популярность в России, «Ирландские мелодии» становились своего рода символом ирландского освободительного движения, хотя сам Томас Мур никоим образом не претендовал на статус оппозиционера, борца за свободу: в его цикле протестные настроения выражены умеренно, без откровенно резких выпадов, причем свободолюбивые мысли словно растворены в нотах проникновенного лиризма, примиренности со свершившимся, задумчивой грусти о несбывшихся мечтах. А.П.Суруханян, характеризуя замысел «Ирландских мелодий» Т.Мура, возникший еще в середине 1790-х гг. в Тринити-колледже Дублинского университета, справедливо замечал приглушенность политического звучания данного поэтического цикла, который, раскрывая этапы освободительного движения ирландцев в ХVIII – первой четверти ХIХв., был более обращен к событиям прошлого, нежели к перспективам дальнейшей борьбы 6.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу