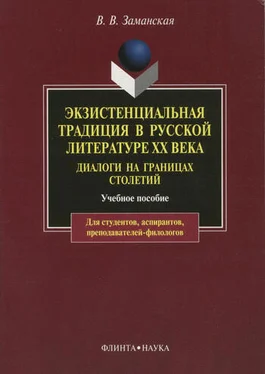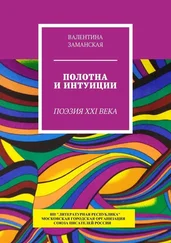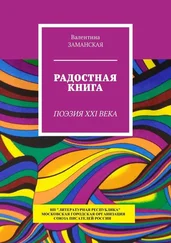То, о чем свидетельствуют упомянутые историко-литературные и культурологические факты, подтверждает обстоятельство, в 1902 г. отмеченное Л. Шестовым: «Теперь ведь уровень идей во всех странах один и тот же, как уровень воды в сообщающихся сосудах». «Россия серебряного века была одним из центров высокой европейской цивилизации» (А. Эткинд). В этой связи история русской литературы XX века состоится лишь тогда, когда мы прочтем ее в контекстах литературы, философии, культурологии, других видов искусства. Литература должна предстать не как сумма диалогов, которые реконструировала компаративистика и XIX и XX веков, а объемно – как всеобъемлющий полилог столетия, воссоздающий бытие литературы не в трехмерном, а в четырехмерном пространстве (четвертое измерение – экзистенциальное), – полилог, единственно способный передать адову суматоху (М. Горький) XX века.
Воссозданная картина приблизит нас к истинному смыслу пророческих слов Вл. Соловьева: «Настоящее существительное к прилагательному русский есть европеец. Мы русские европейцы, как есть европейцы английские, французские, немецкие» (Вл. Соловьев).
Сюжет второй.Было бы, однако, несправедливо, пытаясь нарисовать духовный портрет XX века и его художественного сознания, ограничиться лишь той мрачной палитрой, которая запечатлела глубину разрушительных тенденций нашего столетия. Эпоха рушила и крушила, реализуя те прогнозы, которые в начале века дала экзистенциальная литература. Литература же старалась устоять и человека удержать на краю бездны разрушения и саморазрушения. И эти две взаимоисключающие и, возможно, взаимопредполагающие тенденции составляют содержание XX века, отражают драму его художественного сознания: с одной стороны, предчувствие развоплощения, зафиксированный экзистенциальный факт дематериализации мира и души, с другой – жажда вочеловечения (Блок), тоска по синтезу, страсть к воплощению. Возможно ли было бы во второй половине столетия столь мгновенное возрождение христианских мотивов в литературе, появление чуда астафьевской «Царь-рыбы», айтматовского «Белого парохода», повести «Пегий пес, бегущий краем моря»; возможно ли было бы Даниилу Андрееву каждым словом, душевным движением воплотить жест грядущего тысячелетия «Я соединяю» в «Розе Мира», возможно ли было бы И. Бродскому столь пронзительно ощутить себя неуничтожимой «частью речи» человечества, – если бы не эта неистребимая страсть к воплощению, параллельно экзистенциальной звучащая струна художественного сознания XX века? И не вызвала ли приведенный ряд явлений к жизни (по закону диалектики) реальность развоплощения XX столетия? Обе эти тенденции – и в их диалектической неразрывности! – сознанием рубежа XIX–XX веков и были предсказаны и запрограммированы на предстоящий век. Если бы человечество умело слышать собственный внутренний голос.
Именно историко-литературной и культурологической ситуацией рубежа XIX–XX веков – ситуацией русского ренессанса – была предложена мощнейшая программа художественного синтеза, которая проектировала культуру столетия и должна была уравновесить разрушительные тенденции. Литература, искусство, философия мыслились и создавались на рубеже столетий и тем самым обусловили уникальную атмосферу эпохи – явление цельное, органичное именно полной неразрывностью всех сфер самовыражения личности.
Генезис синтезного мышления начала века, по нашему мнению, коренится в принципиально новом характере философии. А. Шопенгауэр открыл едва ли не главный закон художественного сознания XX века – его бинарный характер, обусловивший неразрывность философского и эстетического начал прозы Ницше, Кафки, Белого, Андреева, но еще – синтез философии, музыки, поэзии русского символизма, синтез живописи и слова в художественном мышлении русского футуризма, прозу Платонова, Горького 1920-х годов, Булгакова и т. д. В таком синтезном мышлении осуществлял себя, например, «Мир Искусства» С. Дягилева, журнал «Аполлон» (произведение литературы, полиграфии, графики, живописи, философии). Вряд ли нам удастся сегодня понять И. Северянина вне контекстов русского художественного модерна, Маяковского – вне контекстов русского авангарда. И вряд ли откроется нам В. Кандинский вне связи его живописи с поэтическим альбомом «Звуки», теоретическими работами 1910-х годов, моделирующими не только законы бытования живописи.
Маяковский, Андреев, Волошин, Кандинский, Малевич осознавали себя в разных видах искусства. Универсализм личности на рубеже столетий был признаком поистине ренессансного века и искусства – и лишь этот ренессансный универсализм личности и «синтезный» характер мышления способен был уравновесить и нейтрализовать надвигающийся трагизм экзистенциального уединения и разделения человека перед «прародимыми хаосами» века и собственной души, реально ослабить драматизм рубежного сознания как следствия переоценки всех ценностей. Бесконечно прав Ф. Степун: «Русские люди начала века вели жизнь совершенно античную…, им ведома была сладость жизни духовной, интеллектуальной…». И, главное, столь разные, они просто не умели мыслить вне синтеза – ни автор мрачного «Петербурга», написавший свой роман почти как осознанную иллюстрацию к законам мышления начала века, ни П. Флоренский, который и православный храм воспринимает как синтез искусств – музыки, театрального действия, живописи, слова…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу