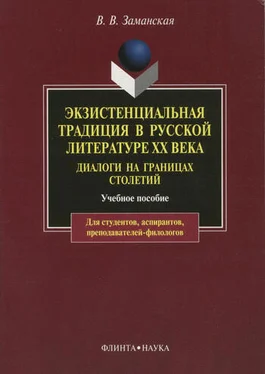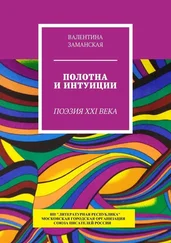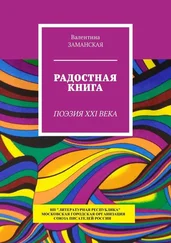Произошла переоценка всех ценностей, отброшены сдерживающие человека пределы, каковыми для него были Бог, мораль… Достоевский прав в своем предсказании: получившее «дар свободы» «несчастное существо» «не знает, как от нее избавиться, кому ее препоручить». Человек XX века оказался в глобальной «экзистенциальной ситуации»: наедине с метафизическими безднами бытия и собственной души, перед беспредельностью одиночества, из которого ему оставался лишь путь к «расколотому Я» (Р. Лейнг). Человек, утративший божественное равновесие духа и охваченный «экзистенциальным беспокойством» (В. Варшавский), очутился между собственным всесилием и бессилием. Он не просто «божий лик» стер из генетической и нравственной памяти своей, не просто Символ веры отверг, не просто идею Бога превратил в «проблему Бога», он устами набоковского Германа Карловича из «Отчаяния» совершил очеловечение Бога, довершив тем самым собственное обезбожение: «Идею Бога изобрел в утро мира талантливый шалопай, – как-то слишком отдает человечиной эта идея, чтобы можно было верить в ее лазурное происхождение… Я не могу, не хочу в Бога верить еще и потому, что сказка о нем – не моя, чужая, всеобщая сказка… она мне чужда и противна, и совершенно не нужна… Бога нет, как нет и бессмертия».
Но мир без Бога неминуемо превратится в мир без человека, когда «так много богов и нет единого вечного бога» (Л. Андреев). В этой всеобъемлющей формуле саморазрушения в начале XX столетия сошлись все: русская и европейская философия, русский литературный и художественный авангард (отсюда – в том числе и задыхающееся, сверхэкзистенциальное самоощущение Маяковского: «Я одинок, как последний глаз / У идущего к слепым человека!»).
В этой плоскости вступила в диалог русская и европейская литература – Ф. Кафка, Л. Андреев, А. Белый, в частности. Здесь осуществился уникальный по своей силе провиденциальный потенциал литературы экзистенциальной ориентации. Ф. Кафка предсказал практически все бездны саморазрушения и самоуничтожения человека XX века и тупики грядущего абсурда бытия в «Описании одной борьбы», «Норе», «Процессе», «Замке»: «борьбу без борьбы», «процесс» самоубийства отчужденного человека, готового принять вину без вины и подчиниться «наказанию без преступления», формулу «мыслю по кругу» как путь вырождения человека в «существо», эволюцию «невменяемого слова» (К. Свасьян) в невменяемую психику. Андрей Платонов в «Ювенильном море» почти дословно повторил кафкианскую стихию. Ужасающая разница кафкианских и платоновских видений абсурда заключалась лишь в том, что первый еще только фантазировал, второй описал уже пережитое.
Но ведь первым в пучину беспредельностей грядущего века бросил человека Л. Толстой! В «Смерти Ивана Ильича» его человек как таковой и был освобожден от Бога. Это почти как в «Правилах добра» Л. Андреева: такие правила есть, не сказано лишь, когда и как их применять. Человек один на один с бессмысленностью смерти и бессмысленностью жизни. Перед этой трагичностью человеческого бытия и сознания едва ли не первым застыл великий Толстой – «участник мировой сути» (Ю. Айхенвальд), когда посмотрел на человека XX века его глазами, заглянул в его подсознание, и когда в поздних своих повестях сам перешел в экзистенциальное «измерение» нового столетия. Открытую Толстым в «Смерти Ивана Ильича» экзистенциальную ситуацию А. Камю спроецировал на каждодневность нависшей над человечеством в XX веке угрозы массовой смерти. В обнаруженные Кафкой тупики «засознания» всматривались Андреев, Набоков, Мамлеев…
Россия, увидевшая эти бездны грядущего века и человеческой души через призму зрения Тютчева, Достоевского, Толстого, сама живущая «точно накануне чего-то» (А. Эртель), уже настроенная на «невиданные перемены, неслыханные мятежи» (Блок), узнала в Ницше своего героя и сразу же устремилась к нему духовно. Прав А. Эткинд, писавший, что в России идеи Ницше стали базой социальной практики. И романтические герои раннего Горького, и «красивый, двадцатидвухлетний» пророк Маяковского, и Сергей Петрович Леонида Андреева, все они столь несхожие, имеют общие корни, общую духовную «праотчизну» – теорию Ницше. В становлении русского художественного сознания XX века сам Ницше – как личность, как величайший бунтарь – оказался явлением эпохальным: после Ницше нельзя было думать, чувствовать, жить, как прежде. После него мир стал другим (трудно сказать, лучше или хуже) – миром XX века.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу