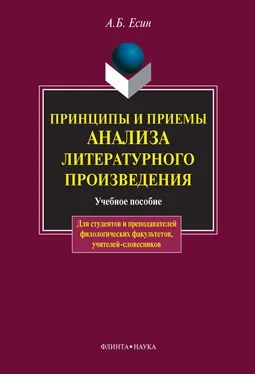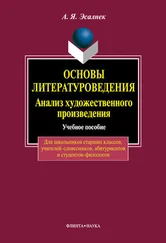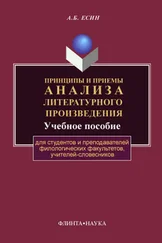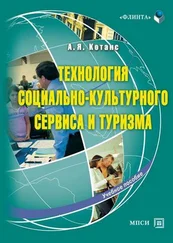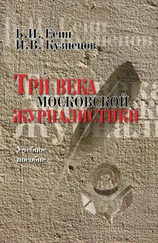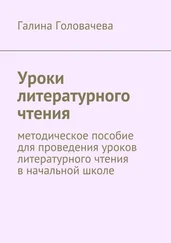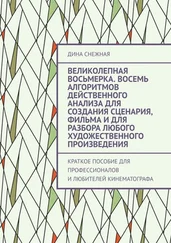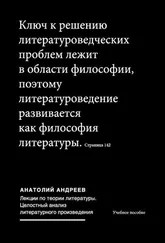1 ...7 8 9 11 12 13 ...128
Проблема научности литературоведения
Сложности в постижении художественного произведения, явно присутствующая в литературоведческой науке субъективность, а также практическое воплощение некоторых методологических крайностей, о которых речь ниже, породили принципиальные дискуссии о научности литературоведения, о возможности и целесообразности научного постижения литературно-художественного целого. В этих дискуссиях почти сразу же наметились две крайности. Одна из них состояла в признании современного литературоведения сплошь субъективным, а потому и ненаучным. Будущая же научность литературоведения виделась прежде всего в достижении им точности естественных наук, то есть точности числовой, математической. Приверженцы этого взгляда (наиболее ярко он проявился в литературоведческом структурализме) опирались на известное суждение основоположника кибернетики Н. Винера о том, что всякая наука лишь постольку наука, поскольку использует математический аппарат, «степень научности равна степени математизации». В ход шли статистические подсчеты, выведение формул, построение графиков и т. п., но скоро стало ясно, что подобный анализ дает для постижения художественной сути произведения еще меньше, чем «традиционное» литературоведение, ибо игнорирует главное – содержание произведения и его эстетические свойства. Против методологических установок этого «сверхточного» литературоведения выступил целый ряд ученых – М.Б. Храпченко, П.А. Николаев, Г.Н. Поспелов, Д.С. Лихачев и др. Весьма экспрессивно, но вместе с тем строго доказательно и очень глубоко по существу опроверг методологические установки структурализма П.В. Палиевский, указавший, что стремление к точности здесь вырождается в «ту самую ложно понятую, фетишизированную научность, которая закрывает собой предмет, вместо того, чтобы дать ему высвободиться» [14]. Ученый указал и на главную опасность такой методологии – «потерять богатство человеческого содержания, а заодно и само искусство» [15].
Полемика с приверженцами математической точности в литературоведении привела к тому, что глубже был разработан вопрос о специфике литературоведческой точности и научности. Если ее природа – не математического характера, то какого? Точность и научность обеспечиваются соответствием научных положений и выводов своему предмету – вот такой важнейший вывод был сделан в этих работах. При этом подчеркивалось, что «в попытках обрести точность нельзя стремиться к точности как таковой и крайне опасно требовать от материала такой степени точности, которой в нем нет и не может быть по самой его природе» [16]. «Чем в большей мере принципы и приемы исследования, применяемые той или иной наукой, соответствуют природе предмета этой науки, чем сильнее они опираются на объективные существенные и специфические особенности жизни и развития ее предмета, тем большей степенью научности могут обладать ее исследования» [17].
Еще в 1936 г. выдающийся российский ученый Б.И. Ярхо указал, что основной и, в сущности, единственный признак научности – установление законов и закономерностей в предмете науки [18]. В исследованиях последних лет этот вывод был еще раз аргументирован и подтвержден. Научность литературоведения будет выражаться в установлении достаточно устойчивых закономерностей, касающихся художественной литературы – типических связей внутри литературных фактов и между ними, тенденций развития и т. п. Иными словами, литературоведение будет наукой тем больше, чем на большее количество «почему» сможет ответить указанием на закономерные, причинно-следственные, типичные связи.
Наряду с попытками придать литературоведению несвойственную его предмету степень точности и научности, существует методологическая тенденция, в принципе отвергающая возможность научного постижения художественного целого. Аргументация ее приверженцев сводится к тому, что наука никогда не сможет передать волшебного очарования произведений искусства, раскрыть их тайну. Разрушая эстетически-образный строй произведения, научный анализ тем самым фактически уничтожает его, а литературовед, пытающийся постигнуть существенные закономерности искусства средствами науки, неминуемо уподобляется пушкинскому Сальери, который «звуки умертвив, музыку разъял, как труп». Произведение может быть познано лишь интуитивно, а результаты этого познания должны получать форму свободной фиксации субъективных впечатлений и произвольных ассоциаций. Естественно, что о каком-либо строгом соотнесении этих впечатлений и ассоциаций с самим произведением не может быть и речи; научность литературоведению не нужна и даже вредна, и само литературоведение должно быть не столько наукой, сколько искусством – искусством переживаний по поводу произведения и изложения этих переживаний в экспрессивной, а часто и образной форме.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу