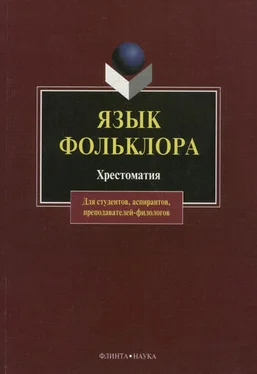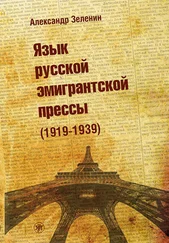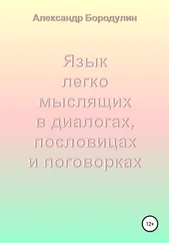Язык фольклора, как и все в целом фольклорное произведение с его идейно-образной системой, по-разному воспринимается с диалектных языковых позиций и с позиций литературного языка. С позиции носителя литературного языка все то, что отличается от кодифицированных норм, воспринимается как эстетически маркированное, все это обогащается эстетическим «приращением смысла», имеет отстраненный характер, причем по эстетической функции совпадут как собственно художественные языковые средства фольклора, так и его диалектные черты, которые как иносис-темные для носителя литературного языка тоже будут стилистически маркированными, как и многие факты диалектной нехудожественной речи, относящиеся, с точки зрения диалекта, именно к нехудожественному стилю речи. Впечатление образности, яркости, выразительности диалектной речи у носителя литературного языка носит субъективный характер и определяется лишь отношением диалектных языковых фактов к фактам литературного языка. Иносистемные языковые факты на фоне привычной обиходной речи всегда воспринимаются как более выразительные.
В принципе, так же будет восприниматься произведение фольклора и с точки зрения носителя какой-либо частной диалектной системы, потому что и для него в языке этого произведения тоже будут иносистемные элементы. Однако для носителя диалекта в произведении фольклора эстетически значимых элементов этого типа будет меньше, и круг их будет иной, чем для носителя литературного языка, потому что часть фольклорных фактов, которые для носителя литературного языка в той или иной степени стилистически маркированы, для носителя данного диалекта лишена какой бы то ни стало художественной выразительности и входит в фонд обычных речевых средств родного ему диалекта. Для носителя диалекта набор эстетически значимых языковых фактов фольклорного произведения будет иным, чем для носителя литературного языка в том же произведении. Это будут факты других говоров, пришедшие с фольклорным текстом и не совпадающие с соответственными фактами данного говора, междиалектные языковые факты, историзмы и генетические архаизмы, а также все собственно выразительные языковые средства фольклора.
Язык фольклора – это язык художественного произведения, с исходной коммуникативно-эстетической функцией. Многие его составляющие и возникали именно как элементы языка искусства, как выразительные средства. Чтобы выделить именно эти генетически эстетические средства языка фольклора и отделить их от тех средств, которые определяются как выразительные только из сопоставления с литературным языком, анализ художественных языковых средств фольклора надо начинать с учёта отношений внутри одной системы, т. е. внутри того говора, на котором реализуется то или иное произведение фольклора. Тогда многое из того, что в тексте произведения фольклора носитель литературного языка будет воспринимать как художественное средство, как образ, на самом деле окажется фактами языка нехудожественного, фактами обиходной речи. Например, тавтологические сочетания в произведениях фольклора обычно воспринимаются как художественный приём, однако во многих говорах они представляют собой факты обиходной речи и лишены какой бы то ни было эстетической нагрузки [103].
Даже иное, чем в литературном языке, лексическое наполнение в языке фольклора общей модели тавтологического словосочетания воспринимается носителями литературного языка как выразительное средство: ср. литературное и диалектное словосочетание гром гремит и словосочетания дождь дождит, стук стучит и мн. др., стилистически немаркированные с точки зрения носителя диалекта, но маркированные с точки зрения носителя литературного языка. Такие словосочетания встречаются и в народном эпосе, и в народной лирике, и в прозаических жанрах.
Повторение предлогов многими носителями литературного языка тоже воспринимается как художественный приём, хотя во многих говорах, и северно-и южнорусских, это обычные факты нефольклорной обиходно-разговорной речи. Точно так же некоторые словосочетания, например, лирических песен, воспринимаемые как художественно-метафорические, представляют собой обычные словосочетания нехудожественного языка. Весьма возможно, что многие эпитеты в былинах – калена стрела, доспехи булатные, седелышко черкасское и мн. др. – генетически восходят к обычным определениям.
Один и тот же комплекс фонем в очень близких, но не тождественных языковых системах имеет неодинаковую семантическую структуру, и это определяет неодинаковый характер его восприятия у носителей этих систем, для которых этот комплекс фонем будет по-разному стилистически маркирован. Примером может послужить слово грозный, которое в фольклорных текстах часто встречается в сочетании со словом туча (туча грозная):
Читать дальше