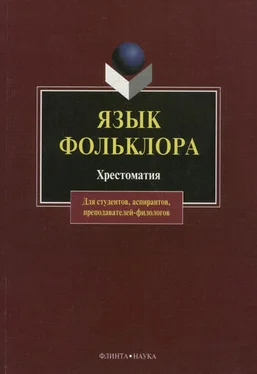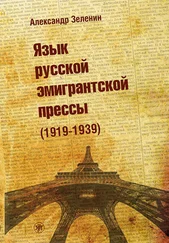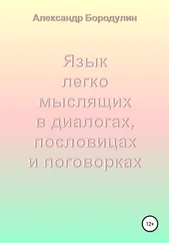А.А. Потебня
Из записок по русской грамматике. Т. 3. М.: Просвещение: 1968
Дело изменяется, как скоро изображаемые утопичными действия мысли поставить на почву языка.
Со стороны словесного выражения, в котором оставил следы действительный исторический ход мысли, суждения (т. е., между прочим, сочетание подлежащего и сказуемого, определяемого и определения) не тождесловны.
В то время (1861–1862 гг.) и до этого я, под влиянием сочинения Костомарова (Об ист. зн. р. н. п.) и отчасти Буслаева, был занят постоянными выражениями славянской народной поэзии и мог заметить, что обычные сочетания, как «брови – соболь», «лицо – белый снег», «кремень человек», мр. «козаче соболю» (см. Объясн. мр. п., II, 343), «козаче хрещатий барвшку», «дiвчина горлиця», «уроди, боже, серебро стебло, серебро стебло женцев1 зерно», суть суждения вовсе не подходящие под формулу а=а. А между тем едва ли кто решится отрицать то, что подобные выражения важны в развитии мысли, ибо это образцы образного, поэтического мышления [61].
Это – то воззрение, которое доныне господствует относительно тропов и фигур вообще: сначала говорилось просто, прозаически, а потом почему-то стало говориться образно, поэтично, необычно. Это – взгляд потомка, которому свой образ мысли, своя обстановка кажутся так естественны, что уровень мысли и обычая предков он готов считать (и действительно считает, как некоторые учёные – мифы) неправильным, болезненным отклонением от этой естественности [217].
Как вообще в развитии мысли и языка образное выражение древнее безобразного и всегда предполагается им, так, в частности, понятия действия, качества суть относительно поздние отвлечения. По вышесказанному суждения аналитические, состоящие в разделении мыслимого на вещь и её качества и действия, стали возможны лишь в силу того что им предшествовали суждения синтетические, состоящие в сочетании двух равно субстанциальных комплексов. Таким образом, существительное с определительным прилагательным предполагает сочетание двух существительных, притом сочетание паратактическое, ибо подчинение одного из этих существительных другому хотя и не устраняет двойственности субстанций, но направлено к их объединению.
<���…> Союз между сопоставляемыми существительными лишь в редких случаях может быть понят как выражение последовательности восприятия вещей, сопоставленных в пространстве. По-видимому, так должно было быть понято и в предполагаемом брови и соболь, очи и сокол (= соболиные, сокольи), чтобы мог возникнуть гиперболический образ:
У нашей княгини души…
Со бровей соболь бежит,
Со очей сокол летит, Шейн, Рус. нар. пес, 518.
С этим ср. песенный приём, который я назвал «овеществлением образа, превращением символа в обстановку» (Объясн. малорус, пес, I и II, указатель), напр. «калина-девица», отсюда – «девица под калиной» [218].
В разных течениях языка, иногда личных, иногда более общих, различна степень потребности этих (с точки позднейшего, преимущественно письменного гипотактического языка) плеонастических частиц, заполняющих собою пробелы мысли, В немерной речи они более бросаются в глаза, чем в мерной, (В начале стиха или полустишия эксплетивные частицы менее заметны с позднейшей точки, чем внутри полустиший: чем теснее ожидается связь, тем более поражает её нарушение.) Чем строже стихотворный размер, напр, серб, десятисложный, чем реже встречаются в нём союзы эксплетивные, напр. в серб, и, тем более выделяются и обособляются, как остатки старины, обороты кита и сватови. Наоборот, тем труднее выделить обороты кита и сватови в особый разряд, чем чаще эксплетивные союзы в случаях, например, атрибутивного сочетания существительного и прилагательного или объективного сочетания падежа с родительным принадлежности.
Такое и плеонастичное в серб, и мр. редко; но оно часто у некоторых певцов свр. былин [219].
Образец хлеб-соль.
Частное значение возводится к общему или так, что одно частное получает значение общее (напр., virtus в значении добродетели вообще, достоинства, качества: (ut)ob еа, quod una caeteris excellebat, omnes nominatae sint, Cic; защита, оборона, praesidium, propugnaculum), или так, что общее означается двумя или несколькими частными. В 1-м случае путь обобщения не указан, во 2-м обозначены посредствующие точки. Этот второй способ считается характеристичным для китайского языка, в коем, напр., нет простого слова для добродетель, но это значение выражается перечислением четырёх главных добродетелей; для значения «соседство» – сочетание: переулки – улицы – соседство – дома; для значения «расстояние» – сочетание противоположных частных: далеко – близко; также для «вес» – тяжело – легко; для «разговор» – вопрос – ответ (Steinthal, Character., 124).
Читать дальше