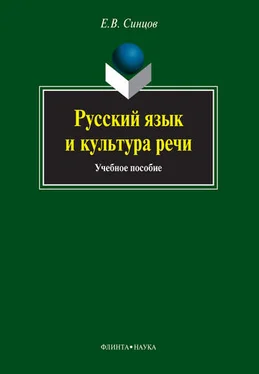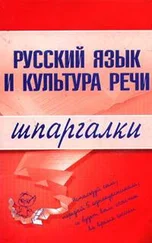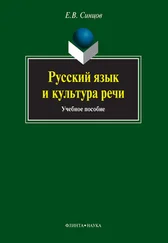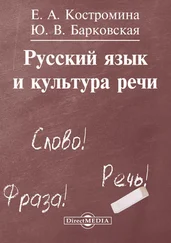Речь, как Элиза Дулиттл из пьесы «Пигмалион» Б. Шоу: она полна блеска и вдохновения только в том случае, если ее сформировали сразу двое «учителей» – профессор Хиггинс и полковник Пикеринг. Первый придал речи совершенные формы (в том смысле, как это трактуется в определении культуры речи в триединстве ее аспектов), а второй наполнил ее всей глубиной подлинной человеческой культуры. (Кратко пересказать последнюю речь Элизы, где она благодарит Пикеринга за уважительное отношение к ней, за поданный стул, за приветствие: вставал в ее присутствии и т. п. Это для нее даже более важный урок, чем занятия языком, его «пустыми формами» с грубым Хиггинсом.)
3.2. Усиление хаотических процессов в современном языке
Но современному человеку все труднее сохранять в речи равновесие ее культурной и собственно лингвистической составляющих. Причина тому – сложные процессы в современной культуре. В ней чрезвычайно усилились хаотические процессы, наметились тенденции разрыва устойчивых связей. Культурная ситуация меняется настолько стремительно, что ученые говорят о некоем «культурном взрыве».
Детонатором этого «взрыва» в первую очередь стала так называемая перестройка, призванная произвести своеобразную революцию в социальной сфере. А революция в социальных отношениях неизбежно сказывается и на языке, поскольку язык в первую очередь функционирует в социуме. Поэтому в языке тоже начались процессы весьма специфической «перестройки».
Писатель И. Волгин с тревогой пишет об этих процессах: « Есть какая-то тайная связь между ослабевшей грамматикой и нашей распавшейся жизнью. Путаница в падежах и чудовищный разброд ударений сигнализируют о некоторой ущербности бытия. За изъянами синтаксиса вдруг обнаруживаются дефекты души. Повреждение языка – это, помимо прочего, и повреждение жизни, неспособной выразить себя в ясных грамматических формах и поэтому всегда готовой отступить в зону случайного и беззаконного. Язык – исписанная конституция государства, несоблюдение духа которой ведет к гибели всякую (в том числе и духовную) власть».
Одним из проявлений хаотических тенденций в языке стало интенсивное вторжение стихии общенационального языка, которым СРЛЯ всегда окружен, как некое подобие острова, омываемого изменчивой водной стихией. И когда эта стихия разражается штормом, а тем более бурей, то берега острова не всегда могут выдержать ее натиск, слишком могучий и агрессивный. Так и СРЛЯ. «Ураганы» социальных потрясений неизбежно поколебали самые глубинные слои культуры, пробудив ее «окраинные образования», и она всей своей мощью обрушилась на язык.
В первую очередь пострадали «бастионы» коммуникативных аспектов языка. Ситуации общения стали чрезвычайно разнообразны.Резко расширился состав участников массовой коммуникации. Новые слои населения приобщились к роли ораторов, корреспондентов газет, заняли управляющие должности (речи B.C. Черномырдина, например, долгое время были предметом множества пародий, часто цитировались). Это люди, не всегда владеющие литературной нормой, плохо чувствующие язык, не «исполненные культурой». Но они оказались в центрах внимания новых социальных ситуаций, и к ним невольно прислушивались, перенимали их манеру выражать свои мысли.
На коммуникативно-речевую ситуацию повлияло также усиление диалогичности общения.Средства массовой коммуникации, например, изо всех сил стараются говорить с потребителем «на его языке». Под нетребовательного и ленивого читателя пишутся детективы и иная беллетристика не всегда хорошего качества. Речь стала приобретать очень конкретного адресата, от которого нужно добиться желаемой реакции. А для этого порой все средства хороши, вплоть до разговорной и даже ненормированной речи.
Расширилась сфера спонтанного общения.Например, стало дурным тоном произносить заранее отрепетированную или заученную речь. А в любом спонтанном речевом событии неизменно активизируются случайные связи в языке, возникают отклонения от строгой нормы. Спонтанные речевые акты приводят также нередко к смешению речевых жанров. Это очень заметно, к примеру, в СМИ, где дикторы сменили учительно-информирующий тон на тон шутливый, размышляющий, диалогичный. Возросло психологическое неприятие бюрократического языка доперестроечного времени («новояза»). Активизировались поиски новых средств выражения, новых форм образности («Так ты лохушка деревенская?» – от «лох» + «кадушка» + целый шлейф небрежительных оттенков суффикса – ушк). Вместе с тем в язык стали возвращаться историзмы, такие, как «барышня», «господа» и т. п.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу