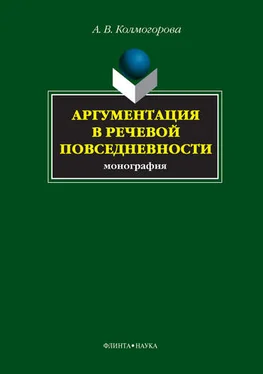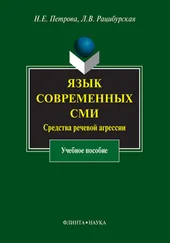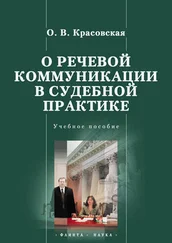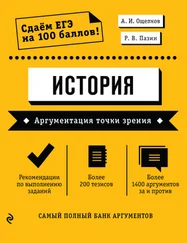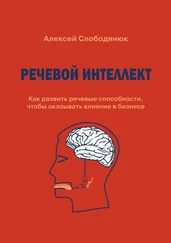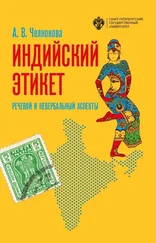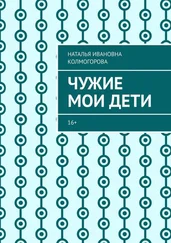1 ...8 9 10 12 13 14 ...57
1.3.2. А что есть смысл? (социальный аспект)
Однако следует подчеркнуть, что в случае человеческой коммуникации, в отличие, скажем, от коммуникации в животном мире, окружающую среду следует понимать не столько как природу, сколько как социум. Следовательно, смысл языкового знака можно определить как оптимальную модель взаимодействия с социальной средой в конкретных временных и пространственных условиях, становящуюся возможной благодаря использованию данного объекта (слова). В таком случае, одной из сущностных характеристик смысла в речевом общении является его двусторонняя направленность: от Говорящего и от Слушающего к некоторому общему для них обоих центру – точке общности.
Ведь если смысл, сформированный мной в моем речевом воздействии, по каким-либо причинам не «спровоцировал» процесс формулирования моим собеседником достаточно близкого (но не идентичного, поскольку это не возможно) смысла, то мое речевое воздействие не состоялось, а значит, было бессмысленным.
Смысл речежизненного поступка можно определить как точку наивысшего напряжения, в которой происходит «стягивание» двух стремящихся к взаимопроникновению сознаний.
М.М. Бахтин отмечал: «Высший архитектонический принцип действительного мира поступка есть конкретное, архитектонически-значимое противопоставление я и другого. Два принципиально различных, но соотнесенных между собой ценностных центра знает жизнь: себя и другого, и вокруг этих центров распределяются и размещаются все конкретные моменты бытия. Один и тот же содержательно-тождественный предмет, момент бытия, соотнесенный со мной или соотнесенный с другим, ценностно по-разному выглядит, и весь содержательно-единый мир, соотнесенный со мной или с другим, проникнут совершенно иным эмоционально-волевым тоном, по-разному ценностно значим в своем самом живом, самом существенном смысле. Этим не нарушается смысловое единство мира, но возводится до степени событийной единственности (курсив наш. – А.К. )» (Бахтин 1994: 72).
1.3.3. А что есть смысл? (лингвистический аспект)
Однако не следует упускать из вида тот факт, что материалом осуществления речевого поступка является, прежде всего, языковой знак (Н.Ф. Алефиренко предложил также термин «речевой знак» (Алефиренко 2007), а термин «знаки речи» был сформулирован еще Ф.Ф. Фортунатовым (Фортунатов 1956: 122)). Знак же имеет важнейшую характеристику, выделяющую его из ряда обычных «вещей» – знак замещает собой что-то. Следовательно, манипулирование знаком в процессе осуществления ориентирующего поведения имеет своей целью не только сориентировать коммуниканта на определенную модель взаимодействия с телом знака, но, через посредничество первого типа взаимодействия, сориентировать партнера по коммуникации на определенный способ взаимодействия с замещаемым знаком объектом. Происходит «удвоение» объекта, и биологическое определение смысла (Златев 2006) может быть модифицировано: смысл – оптимальная модель взаимодействия с объектом-1 в конкретных временных и пространственных условиях среды, становящаяся возможной благодаря использованию объекта-2 в речевой практике. Правомерно возникает вопрос: в таком случае речь идет о смысле объекта-1 или объекта-2? Скорее всего, следует считать, что выше данное определение фиксирует смысл взаимосвязи между данными двумя объектами. Поскольку нас интересует, прежде всего, проблема смысла языкового знака, то позволим себе сформулировать его так: дискурсивный смысл языкового знака в конкретном речевом поступке есть в достаточной мере адекватно понятая коммуникантом 2 ценностно окрашенная модель взаимодействия с устойчиво ассоциируемым (в сознании членов определенного лингвокультурного сообщества) с языковым знаком объектом, предлагаемая коммуникантом 1 при помощи использования данного знака в конкретном дискурсе.
В таком случае, если «внешнюю» сторону речевой/языковой деятельности человека составляет его речевое поведение, предстающее как способ ориентирующего поведения, в котором доминантой является феномен смысла, то «внутреннюю» сторону данной деятельности целесообразно рассматривать как деятельность по оперированию индивидуальной системой концептов и стратегий смыслоформирования и смыслоформулирования в процессах говорения и понимания речи (Залевская 1999: 29–30; Залевская 2005).
Смыслопорождение и смыслоформулирование есть сложные многоаспектные процессы, тесно связанные с проблемами речепорождения, широко исследуемыми в работах по общей лингвистике, психо– и нейролингвистике (ср. уровни порождения высказывания в теориях Б. Поттье (Pottier 1992) и А. Кюльоли; этапы речепорождения в концепциях Л.С. Выготского (Выготский 2007), И.А. Зимней (Зимняя 1969, 1978), А.А. Залевской (Залевская 1999, 2005), А.А. Леонтьева (Леонтьев 1997).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу