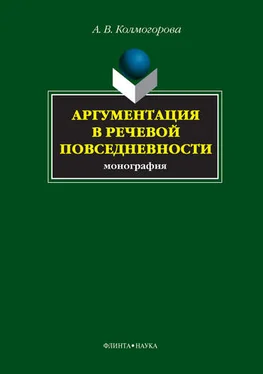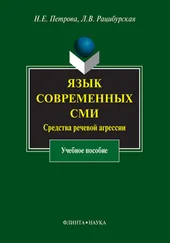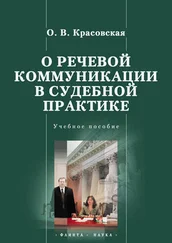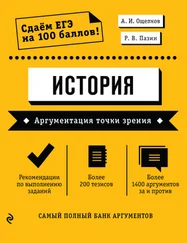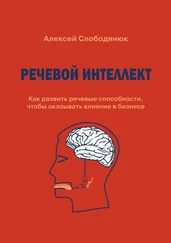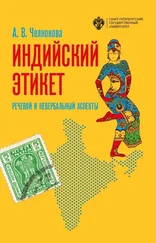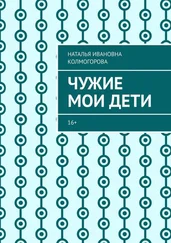1 ...7 8 9 11 12 13 ...57 Все вышесказанное позволяет определить речевое общение как со-бытие двух и более людей в процессе моделирования, создания ими общего мира на основе пред-общности речежизненного опыта.Следует также констатировать, что в речевом общении в модусе повседневности особенно остро проявляются такие характеристики, как опора на некие типизированные формы обобщения опыта; воссоздание уже имеющихся форм, а не создание новых; максимальная реализация адаптивной стратегии в общении, выражающаяся в гипертрофированной ориентирующей функции общения.
Итак, дабы не потерять логику изложения (мы обсуждаем проблему средств и способов аргументации в повседневном речевом общении), подчеркнем: если речевое общение в целом – процесс совместного моделирования реальности, а единица общения – дискурс есть речежизненный поступок, который я совершаю для другого, то аргументативная составляющая должна быть имманентна каждому моменту РО во всех его модусах, в том числе и повседневному РО.
Однако возникает вопрос о том, где, в каком «месте» акта речевого взаимодействия данная аргуменативная «постоянная» коммуникации проявляется и локализуется? Рассмотрим данный аспект подробнее.
1.3. Языковое значение как структура знаний и опыта
1.3.1. А что есть смысл? (биологический аспект)
Проблема определения природы и разграничения феноменов значения и смысла имеет обширную библиографию (Выготский 1968; Кобозева 2000, 2000а; Леонтьев 2001, 2001а; Мельников 1974, 1978; Никитин 2001; Новиков 2005; Павиленис 1983 – и этим, конечно, список не исчерпывается). В контексте доминантности ориентирующей функции РО, особую значимость приобретает именно понятие смысла, поскольку успех коммуникации в данном случае зависит от степени близости вложенного и извлеченного смыслов.
Отметим, что «слабая внутренняя дифференцированность» (Дементьев 2006) термина «смысл» в современном научном дискурсе приводит к множественности его определений и интерпретаций. Однако анализ теоретической литературы позволяет выделить следующие основные «вехи» в понимании данного термина в лингвистике:
1) смысл – не феномен, а событие, поскольку имеет совершенно определенную внутреннюю (в сознании говорящего) и внешнюю (время, место речевого поступка) локализацию («смысл Х-а для Y-a в Т – это информация, связываемая с Х-ом в сознании Y-a в период времени Т, когда Y производит или воспринимает X в качестве средства передачи информации» (Кобозева 2000а: 13));
2) смысл включен в деятельность, а потому – динамичен («смысл – всегда личностное отношение конкретного индивида к содержанию, на которое в данный момент направлена его деятельность» (Красных 2003: 34)); «смысл – аналог значения в конкретной деятельности» (Леонтьев 2001а: 146).
В этой связи следует затронуть концепцию значения/смысла, разрабатываемую в рамках биологической парадигмы в семиотике и лингвистике (Кравченко 2001, 2005, 2006; Лав 2006; Pattee 1982; Rosen 1985; Emmeche, Hoffmeyer 1991; Sharov 1991, 1992; Hoffmeyer 1997; Zlatev 2003). Й. Златев (Златев 2006; Zlatev 2003), например, рассматривает значение объекта – элемента среды (X) как ценность X для живого организма. В таком случае смысл объекта X действительно может быть рассмотрен как некая «полезная», оптимальная модель взаимодействия со средой в конкретных временных и пространственных условиях, становящаяся возможной благодаря использованию данного объекта. Знание же «репертуара» таких моделей, потенциально возможных во взаимодействии с объектом X есть ценность X для живого организма, т.е. значение X для него.
По сути, в отношении слова и других объектов окружающего мира – «вещей» в общефилософском понимании – можно занять одну и ту же мыслительную позицию (по Дюркгейму: «Рассматривать факты определенного порядка как вещи – не значит зачислять их в ту или иную категорию реальности; это значит занимать по отношению к ним определенную исследовательскую позицию (Дюркгейм 1998: 395)): слово для самоорганизующейся живой системы, коей является человек, имеет тот же когнитивный статус, что и любой другой объект окружающего мира – стол, камень, дом и т.д. И стол, и камень, и дом, и слово первоначально являются для познающего субъекта кантовской «вещью в себе», когнитивное присвоение которой (но не раскрытие ее подлинной сущности, которую доподлинно никто не знает), своеобразное познавательное «одомашнивание» происходит путем открытия в данной вещи ее функциональной полезности во взаимодействии с социумом и с природой, т.е. со средой. «Человек осмысливает слово в меру своих сил, придает ему то значение, которое соответствует его потребностям» (Норман 2006: 82). Ярким примером в этом смысле является речевое освоение фразеологизмов: внутренняя форма большинства, скажем, фразеологических сращений (Виноградов 1977) не различима, однако, даже не зная, почему мы так говорим, но, прекрасно освоив на практике прагматический потенциал данных единиц, мы употребляем их к месту и коммуникативно оправданно. Таким образом, в некотором отношении слово является элементом среды для такого живого организма, как человек, и к нему применимы определения значения и смысла, сформулированные И. Златевым.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу