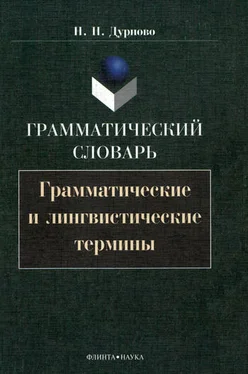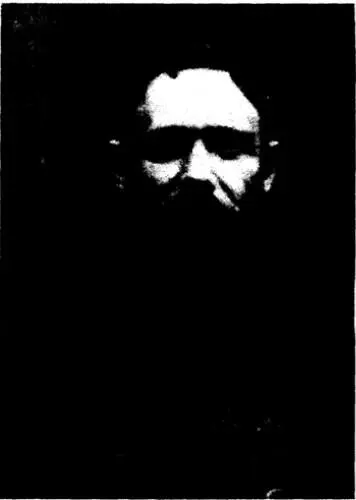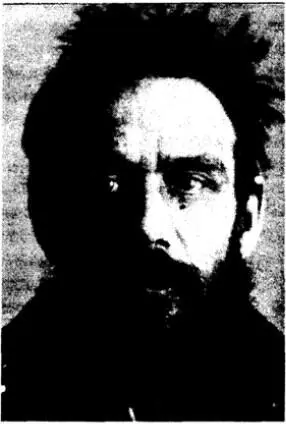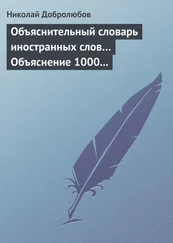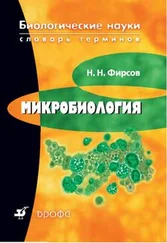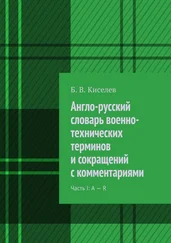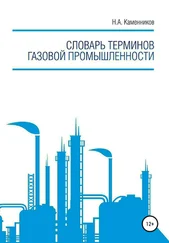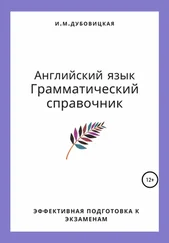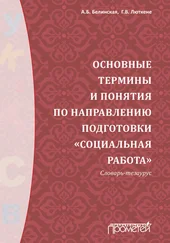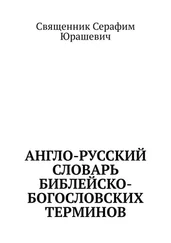В 1918 г. Н.Н. Дурново уехал преподавать в Саратовский университет, где ему предложили занять должность профессора. В эти же годы там работали видные русские филологи: Г.А. Ильинский, Н К. Пиксанов и др. Казалось бы, научная среда была вполне подходящей, да и более высокая ставка позволяла хоть как-то прокормить его многочисленную семью (у Н.Н. Дурново было два сына и дочь). Но обстановка все более ухудшалась: с осени 1920 г. в Поволжье начался голод, и он был вынужден вновь вернуться в послереволюционную Москву и перебиваться случайными заработками.
Все же в этот период (до отъезда в 1924 г. за границу) Н.Н. Дурново опубликовал более 20 работ. Несколько изменилась и направленность его деятельности (хотя по-прежнему в центре внимания были история русского языка и диалектология). Как ученик и последователь ФФ. Фортунатова он не мог не откликнуться на полемику по проблемам преподавания русского языка, даже выпускает «Повторительный курс грамматики русского языка» (вып. 1. М., 1924; вып. 2. М. – Л.» 1929). Тогда же выходят его многочисленные статьи и рецензии: «В защиту логичности формальной грамматики» (1923), «Что такое синтаксис?» (1923), «О формальной грамматике и логике» (1924) и др. В это же время ученый издает оригинальный «Грамматический словарь», где дает описание морфологической и фонетической терминологии. Как написал автор в «Предисловии» к своему труду, «новые веяния в области изучения языка делают особенно ощутительной потребность в таком справочнике, который давал бы объяснения терминов, касающихся грамматики и других отделов науки о языке, с которыми приходится иметь дело как при обучении языку, так и при самостоятельном изучении языка» [19]. К этому же периоду деятельности относится оживленная полемика «о логичности формальной грамматики», которую вел Н.Н. Дурново на страницах российских и зарубежных изданий. Он публикует целый ряд работ и рецензий, в том числе и на известные труды С.И. Карцевского и М.Н. Петерсона, в которых обосновывает системный подход к анализу грамматических явлений. В одной из программных статей, посвященных проблемам современного языкознания, Н.Н. Дурново пишет: «Противники формальной грамматики любят указывать на противоречия между различными представителями формально-грамматического направления, к которому относят А.А. Потебню, Ф.Ф. Фортунатова и их последователей и продолжателей. Но те противоречия, которые принято указывать, касаются не основного принципа – изучать формы самого языка, – а объяснения отдельных грамматических фактов или даже целых групп грамматических фактов, что, конечно, неизбежно, так как наука не дает окончательного решения стоящих перед ней вопросов, а представляет лишь подход к их решению. Иногда же замечаемые противоречия только кажущиеся, объясняемые неверным пониманием сказанного тем или другим ученым» [20].
В 1924 г. Н.Н. Дурново избирают членом-корреспондентом АН СССР.
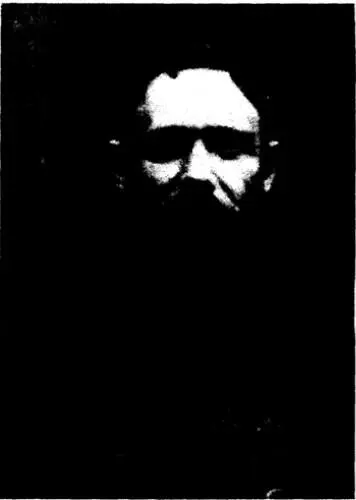
Н.Н. Дурново в Брно. Фрагмент фотографии 1926 г .
Вскоре он уезжает в командировку в Чехословакию, но, не вернувшись в срок, оказывается «невозвращенцем». В университете г. Брно он читает курс истории русского языка, изданный впервые там же в 1927 г., публикует в славянских журналах заметки и рецензии. В эти годы ученый тесно общается с P.O. Якобсоном и Н.С. Трубецким, знакомится с идеей евразийства – оригинального течения русской эмигрантской мысли, развивавшего тезис о самобытности русской (славянской) культуры, ее «особости», по сравнению с западноевропейской. Именно связь с «контрреволюционным» заграничным центром позднее была одной из причин его ареста [21].
Финансовое положение Н.Н. Дурново за границей все более усугублялось. А его семья по-прежнему оставалась в Москве. Поэтому, получив приглашение переехать в Минск, он соглашается, и в начале 1928 г. его избирают даже академиком вновь созданной Белорусской Академии наук. Но вскоре ему пришлось покинуть Минск из-за развернувшейся борьбы с «нацдемами».
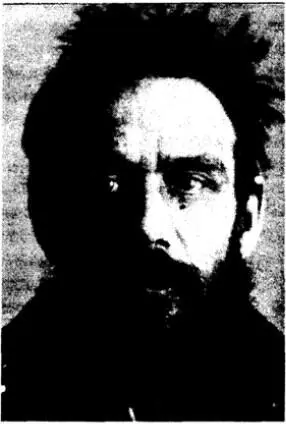
Н. Н. Дурново в застенках НКВД. Конец 1937 г.
Вернувшись в Москву, ученый некоторое время сотрудничает с Московской диалектологической комиссией. Но сменившаяся конъюнктура времени и переориентация деятельности комиссии в сторону социологизаторства не позволили ему плодотворно трудиться. Он постоянно испытывал материальные затруднения, не имея надежной работы и получая жалованье за редкие публикации и договоры. В начале 1930-х гг. был задуман труд, получивший позже название «История русского литературного языка XVII–XIX вв.», который должны были написать Н.Н. Дурново и В. В. Виноградов. Но арест ученого и последовавшее за ним изъятие его рукописей помешали ему закончить и подготовить к изданию свою часть книги (период до XVII века). Последний значительный труд, который увидел свет еше при жизни ученого, был «Чешско-русский словарь» (М., 1933).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу