– О, молчите, молчите! – вскрикнула Соня, всплеснув руками. – От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал!..
– Кстати, Соня, это когда я в темноте-то лежал и мне все представлялось, это ведь дьявол смущал меня? а?
– Молчите! Не смейтесь, богохульник, ничего, ничего-то вы не понимаете! О Господи! Ничего-то, ничего-то он не поймет!
– Молчи, Соня, я совсем не смеюсь, я ведь и сам знаю, что меня черт тащил».
При предыдущем разговоре Раскольников просит Соню прочесть ему про воскресение Лазаря. Это чтение в романе Достоевского соответствует посещению театра в фильме Эрика Ромера. Статуя оживает. Человек понимает, что он живет в книге. Начинается «присутствие каких-то особых влияний и совпадений» уже со знаком плюс, хоть и трагических. Совпадений, как бы говорящих: «Опомнись!» Точнее сказать, они были с самого начала (например, убийство лошади во сне Раскольникова, а потом смерть Мармеладова, раздавленного лошадьми, не говоря уж о перекличке убийства лошади и убийства старухи с Лизаветой), но после чтения о Лазаре становятся все более явными. Скажем, тот момент, когда Раскольников, признаваясь в преступлении, вдруг в Соне узнает Лизавету. Или появление двойника Раскольникова – Свидригайлова. У которого, кстати, «было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску». Который, высказывая Раскольникову его же собственные мысли, говорит «с видом какого-то подмигивающего, веселого плутовства, не спуская глаз с Раскольникова». Которого Дуня, стреляя, слегка ранила в голову (а в заметках Достоевского к роману в связи со Свидригайловым упоминается и какая-то «отрубленная голова»):
«Он ступил шаг, и выстрел раздался. Пуля скользнула по его волосам и ударилась сзади в стену. Он остановился и тихо засмеялся:
– Укусила оса! Прямо в голову метит… Что это? Кровь! – Он вынул платок, чтоб обтереть кровь, тоненькою струйкой стекавшую по его правому виску; вероятно, пуля чуть-чуть задела по коже черепа. Дуня опустила револьвер и смотрела на Свидригайлова не то что в страхе, а в каком-то диком недоумении. Она как бы сама уж не понимала, что такое она сделала и что это делается!»
Перед самоубийством двойничество Свидригайлова подчеркнуто двумя подцепленными им персонажами:
«С этими писаришками он связался, собственно, потому, что оба они были с кривыми носами: у одного нос шел криво вправо, а у другого влево. Это поразило Свидригайлова. Они увлекли его, наконец, в какой-то увеселительный сад, где он заплатил за них и за вход».
А вот свидригайловская Изида-Офелия:
«Он встал и уселся на краю постели, спиной к окну. “Лучше уж совсем не спать”, – решился он. От окна было, впрочем, холодно и сыро; не вставая с места, он натащил на себя одеяло и закутался в него. Свечи он не зажигал. Он ни о чем не думал, да и не хотел думать; но грезы вставали одна за другою, мелькали отрывки мыслей, без начала и конца и без связи. Как будто он впадал в полудремоту. Холод ли, мрак ли, сырость ли, ветер ли, завывавший под окном и качавший деревья, вызвали в нем какую-то упорную фантастическую наклонность и желание, – но ему все стали представляться цветы. Ему вообразился прелестный пейзаж, светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, Троицын день. Богатый, роскошный деревенский коттедж в английском вкусе, весь обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, идущими кругом всего дома; крыльцо, увитое вьющимися растениями, заставленное грядами роз; светлая, прохладная лестница, устланная роскошным ковром, обставленная редкими цветами в китайских банках. Он особенно заметил в банках с водой, на окнах, букеты белых и нежных нарцизов, склоняющихся на своих ярко-зеленых, тучных и длинных стеблях с сильным ароматным запахом. Ему даже отойти от них не хотелось, но он поднялся по лестнице и вошел в большую, высокую залу, и опять и тут везде, у окон, около растворенных дверей на террасу, на самой террасе, везде были цветы. Полы были усыпаны свежею накошенною душистою травой, окна были отворены, свежий, легкий, прохладный воздух проникал в комнату, птички чирикали под окнами, а посреди залы, на покрытых белыми атласными пеленами столах, стоял гроб. Этот гроб был обит белым гроденаплем [145] и обшит белым густым рюшем. Гирлянды цветов обвивали его со всех сторон. Вся в цветах лежала в нем девочка, в белом тюлевом платье, со сложенными и прижатыми на груди, точно выточенными из мрамора, руками. Но распущенные волосы ее, волосы светлой блондинки, были мокры; венок из роз обвивал ее голову. Строгий и уже окостенелый профиль ее лица был тоже как бы выточен из мрамора, но улыбка на бледных губах ее была полна какой-то недетской, беспредельной скорби и великой жалобы. Свидригайлов знал эту девочку; ни образа, ни зажженных свечей не было у этого гроба и не слышно было молитв. Эта девочка была самоубийца – утопленница. Ей было только четырнадцать лет, но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорбленное обидой, ужаснувшею и удивившею это молодое детское сознание, залившею незаслуженным стыдом ее ангельски чистую душу и вырвавшею последний крик отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
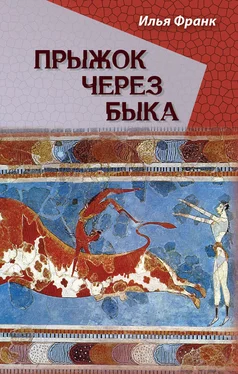





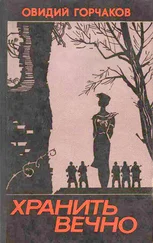
![Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой]](/books/433258/ilya-frank-pryzhok-cherez-byka-dvojnik-thumb.webp)


