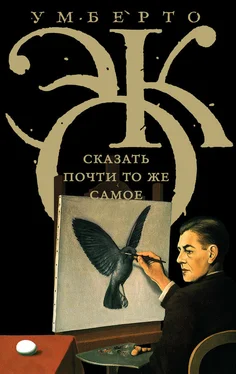В конце этой комедии ошибок Аверроэс возобновляет свои размышления над Аристотелем и приходит к следующему выводу: «Аристу именует трагедией панегирики и комедией – сатиры и проклятия. Великолепные трагедии и комедии изобилуют на страницах Корана и в “Муаллакат” {♦ 86}семи священных» [132] *.
Обычно читатели склонны приписывать эту парадоксальную ситуацию фантазии Борхеса. Однако именно то, о чем он рассказывает, и приключилось с Аверроэсом. Все, что Аристотель относит к трагедии, в комментарии Аверроэса отнесено к поэзии, причем к такой поэтической форме, как хула или хвала. Эта эпидиктическая поэзия пользуется «представлениями», но представления эти – словесные. Цель подобных «представлений» – побудить к доблестным деяниям, и потому намерение их – нравоучительное. Конечно, это нравоучительное понятие поэзии мешает Аверроэсу постичь концепцию Аристотеля об основополагающей катартической (а не дидактической) функции трагического действа.
Аверроэсу приходится комментировать «Поэтику» 1450а слл., где Аристотель перечисляет составляющие трагедии: mŷthos, êthē léxis, diánoia, ópsis и melopoiía (ныне эти слова чаще всего переводятся так: «рассказ», «характер», «высказывание», «мысль», «зрелище» и «музыка»). Первое слово Аверроэс понимает как «мифическое утверждение», второе – как «характер», третье – как «метр», четвертое – как «верования», шестое – как «мелодию» (но, разумеется, Аверроэс думает о поэтической мелодии, а не о присутствии на сцене музыкантов). Драма разыгрывается вокруг пятого составляющего: ópsis («ви ́ дение»), Аверроэс не может помыслить себе, что имеется в виду зримое представление действий, и переводит это слово, говоря о некоем типе аргументации, демонстрирующем доброкачественность «представленных» верований (опять же в моральных целях). Этого перевода будет придерживаться и Герман в своем латинском переводе: consideratio, scilicet argumentatio seu probatio rectitudinis credulitatis aut operationis [133] *.
Мало того, недопонимая недопонимание Аверроэса, Герман объясняет латинским читателям, что эта хвалебная песнь (carmen laudativum) не пользуется искусством жестикуляции. Тем самым он исключает единственный действительно театральный аспект трагедии.
В своем переводе с греческого Вильем из Мёрбеке говорит о трагедии (tragodia) и комедии (komodia), осознавая, что это театральные действа. Правда, для различных средневековых авторов комедия была историей, которая, несмотря на элегические пассажи, повествующие о страданиях влюбленных, заканчивается счастливо. Поэтому даже поэма Данте могла получить определение «комедии», в то время как в своей «Новой поэтике» Иоанн Гарландский {♦ 87}определяет трагедию как carmen quod incipit a gaudio et terminat in luctu [134] *. Ho в конечном счете Средневековью были известны и игры жонглеров, и гистрионы, и священная мистерия, и потому оно обладало понятием о театре. Поэтому у Мёрбеке аристотелевский ópsis превращается в visus («ви ́ дение»), причем предполагается, что это относится к мимическому действу лицедея ( ypocrita ), то есть гистриона. Итак, здесь Мёрбеке приближается к верному лексическому переводу, поскольку он отождествил тот художественный жанр, который, несмотря на множество отличий, был знаком и классической греческой культуре, и латинской средневековой.
7.3. Несколько отдельных случаев
Меня всегда занимал вопрос о том, как можно перевести зачин «Морского кладбища» ( Le cimetière marin ) Поля Валери, гласящий:
Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
entre les pins palpite, entre les tombes;
midi le juste y compose de feux
la mer, la mer toujours recommencée!
[Спокойный кров, где бродят сизокрылы, —
Трепещет он сквозь сосны, сквозь могилы;
Сливает полдень, в точности часов,
Из блестков – море, море в вечной смене! [135] *]
Вполне очевидно, что крыша, по которой бродят голуби, – это море, покрытое белыми парусами лодок; и даже если читатель не понял этой метафоры в первом стихе, то четвертый может, так сказать, снабдить его переводом. Проблема состоит скорее в том, что в процессе выявления метафоры читатель отправляется от средства передачи (метафоризирующего), не только усматривая в нем словесную реальность, но и активизируя те образы, которые ему при этом подсказываются, а образ наиболее очевидный – это лазурное море. Но почему лазурная поверхность должна представать крышей? Это не может понравиться итальянскому читателю и читателям тех стран (включая Прованс), где крыши по определению красные.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу