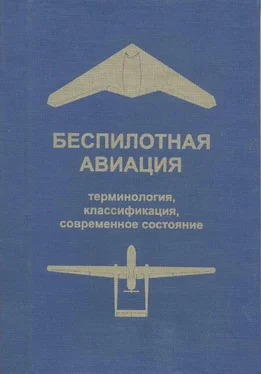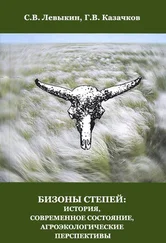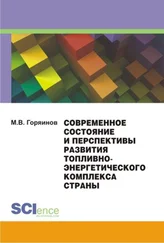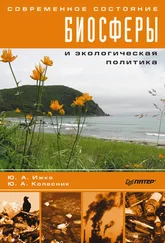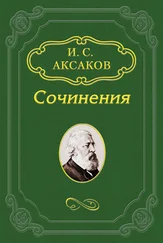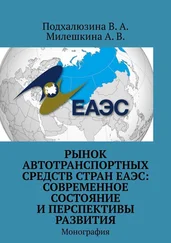– навигация и управление: инерциальная система, интегрированная с приемником спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS и баровысотомером; система воздушных сигналов; бортовой компьютер; радиолинии передачи данных и командная; аппаратура АЗН-В (предназначена для осуществления полетов в общем воздушном пространстве с другими пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами).

Рис. 3.25. БПЛА "Дозор-100" компании "Транзас"
Еще после заключения первой российско-израильской сделки многие эксперты сделали вывод о том, что закупленные БПЛА, очевидно, не закроют потребности российских военных по всему спектру необходимых систем. Географические масштабы нашей страны, а также задачи, стоящие перед Вооруженными Силами, формируют потребность в аппаратах большой продолжительности полета (MALE-класса). Понимая это, российские военные проявляли интерес также к более крупным системам разработки IAI – аппаратам типа Heron. Однако разрешения на их продажу России так и не было получено.
Очевидно поэтому осенью 2011 г. Минобороны РФ провело тендер на средневысотные БПЛА большой продолжительности полета и габаритов, близких к американским аппаратам Predator и Reaper. Решение по конкурсу не было простым. Симптоматично, что Минобороны отказало прежним "фаворитам": концерну "Вега", который имел статус головного предприятия по комплексам БПЛА в России, но снискало не лучшие отзывы в этой области у военных, а также компании "Туполев", которая в нашей стране имеет самый длительный стаж работ в области беспилотных систем, но находится сейчас в весьма сложной кадровой и технологической ситуации. Не получила желаемого заказа и компания "МиГ", несколько лет назад предложившая концепцию перспективного ударного БПЛА. Военные отдали предпочтение предприятиям, положительно проявившим себя в условиях рыночной экономики. Это разработчик высокотехнологичных электронных систем "Транзас", которому поручили создание меньшего из двух беспилотников MALE-класса, и один из основных поставщиков воздушных мишеней для Минобороны РФ – казанская компания "Сокол" (г. Казань), которой предстоит построить российский аналог БПЛА Reaper.
Таким образом, в последние годы заказчик военных БПЛА в лице Минобороны демонстрирует достаточно взвешенный и прагматичный подход, сочетающий заказ имеющихся на рынке российских БПЛА с импортом тех типов беспилотников, которые отсутствуют в продуктовых линейках российских компаний. А при невозможности первого и второго делается заказ на разработку соответствующих систем под требования заказчика.
В целом, на сегодняшний день ситуация с разработками и производством БПЛА в России выглядит несколько лучше, чем еще несколько лет назад. Создан ряд необходимых предпосылок для дальнейшего более активного оснащения Вооруженных Сил России современными разведывательными и разведывательноударными системами на базе БПЛА.
В 2014 г. сформирован Государственный центр беспилотной авиации Минобороны РФ. В нем уже начали подготовку операторов беспилотных авиационных систем.
В феврале 2014 г. министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи со студентами Сибирского федерального университета в Красноярске рассказал, что на программу оснащения Вооруженных сил РФ беспилотными летательными аппаратами, рассчитанную до 2020 года, будет потрачено почти 320 миллиардов рублей. В настоящее время, по его словам, российская армия уже "имеет почти 500 беспилотных летательных аппаратов, которые работают", выполняя задачи по разведке, связи, ретрансляции сигналов и боевому применению [15].
Невоенные БАС
(по материалам [10])
Невоенные БАС в России, как и во всем мире, имеют свои специфичные тенденции развития. В таких сферах, как дистанционное зондирование земли, контроль коммуникаций и границ, ретрансляция сигналов они снижают себестоимость услуг на порядок и даже больше по сравнению с традиционными космическими или авиационными системами. Прогрессу невоенных систем способствует миниатюризация и удешевление электронных компонентов бортового оборудования. Однако на пути развития беспилотной техники гражданского применения существуют три препятствия.
Техническая проблема состоит в том, что потенциальных заказчиков интересуют не БПЛА, пусть и с уникальными характеристиками, а полноценные системы, которые выполняют определенную функцию и не требуют квалифицированного обслуживания. Вторая проблема связана с первой и носит структурный характер. Большинство коммерческих заказчиков хотело бы покупать не беспилотные системы, а услуги (например, летные часы) у специализированных компаний. Очевидно, что и первый, и второй барьер преодолимы по мере того, как гражданскими БАС начинают заниматься крупные промышленные компании, имеющие соответствующие ресурс и опыт. Хуже обстоит дело с преодолением третьего барьера, который коммерческим БАС пока преодолеть не удается. Речь идет о необходимости создания нормативно-правовой базы для сертификации БПЛА и их интеграции в существующую систему управления воздушным движением. Комплексно эта проблема не решена нигде в мире, несмотря на значительные усилия.
Читать дальше