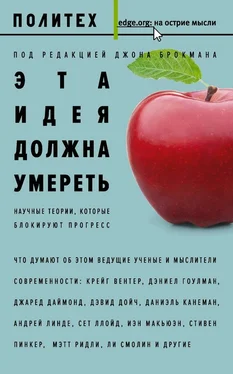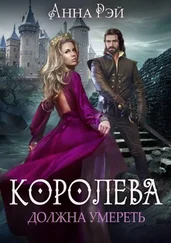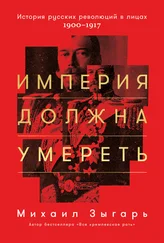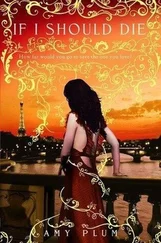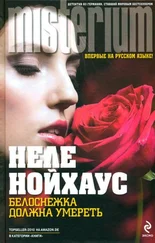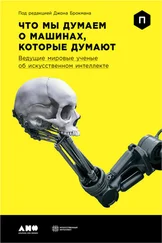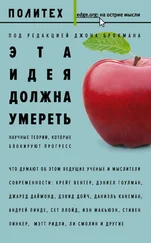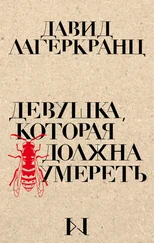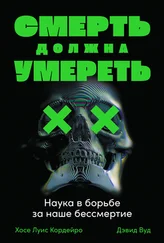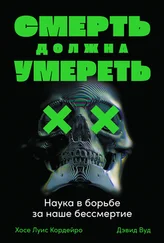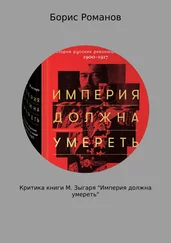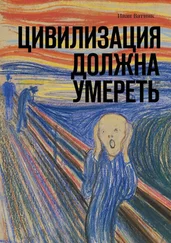Нет ничего радикального в идее о том, что понимание и лечение мозговых нарушений порой должно выходить за пределы происходящего в черепе. Ваше сердце загоняет в ваш мозг оторвавшийся тромб, и после этого вы теряете способность говорить или понимать речь других, управлять половиной своего тела или видеть половину окружающего вас мира. У вас инсульт, и ваш мозг теперь поврежден. Но причина этого заболевания мозга – не в мозге, а в сердце. Врачи делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение мозговых тканей и восстановить некоторые функции, утраченные вследствие закупорки сосудов. Однако при этом они пытаются также диагностировать и по возможности вылечить имеющееся у вас сердечно-сосудистое заболевание. Не страдаете ли вы мерцательной аритмией? Нет ли у вас пролапса митрального клапана? Нуждаетесь ли вы в антитромботических препаратах? Но и на этом врачи не останавливаются. Они хотят знать все о вашей диете, о том, каким видом спорта вы занимаетесь, каков у вас уровень холестерина и как выглядит история сердечных заболеваний в вашем семействе.
Тяжелые психические расстройства атакуют ваш мозг. Однако, как и в случае с оторвавшимся тромбом, они порой могут зарождаться и за его пределами. Ряд исследований в области психиатрии уже дает нам основания предполагать, что по-настоящему хорошая теория психических расстройств совсем скоро потребует концепций, каким-то образом связанных с происходящим вне черепной коробки. Хорошим примером могут служить психозы. Отличительной чертой психозов считаются галлюцинации и бред. Основная форма психоза, шизофрения, представляет собой преимущественно психиатрическое заболевание мозга. Однако шизофрения взаимодействует со внешним миром – в частности, социальным. Десятилетия исследований снабдили нас надежными свидетельствами того, что риск развития шизофрении возрастает в случаях, когда пациенты в детстве становились жертвами жестокого обращения, домогательств и издевательств. Риск возникновения заболевания вдвое больше у иммигрантов и их детей, чем у коренных жителей.
Кроме того, риск болезни увеличивается почти линейно с ростом населения вашего города и может варьироваться в зависимости от социальных особенностей отдельных районов. В стабильных, социально когерентных кварталах меньше шизофреников, чем в менее сплоченных районах с большей текучестью населения. Мы пока еще не понимаем, каким образом этот социальный феномен взаимодействует с шизофренией, однако есть причины думать, что в основе заболевания могут лежать и чисто социальные факторы.
К сожалению, до сих пор детерминанты психозов, связанные со средой, чаще всего игнорируются; однако они тем не менее предоставляют определенные возможности для полезного вмешательства. Пока что у нас еще нет генетической терапии для шизофрении, а антипсихотические лекарства могут использоваться лишь после проявления симптома. Кроме того, эти лекарства не настолько хороши, как нам бы хотелось. Хотя «Декада мозга» [110]позволила произвести ряд важных исследований на тему функционирования мозга и определенных успехов можно ждать от инициативы BRAIN [111], почти никакие из наших усилий пока что не помогли (и вряд ли смогут помочь) пациентам, страдающим от психических расстройств, или тем, кто занимается их лечением. Тем не менее снижение уровня жестокого обращения с детьми и повышение качества городской среды способны полностью уберечь некоторых людей от риска возникновения психического заболевания.
В чем бы ни состояли особенности социальных факторов риска, превращающие их в детерминанты психоза, понятно, что они оказывают определенное негативное влияние на мозг (в противном случае они не приводили бы к росту риска шизофрении). Однако сами по себе эти факторы могут считаться нейронными явлениями ровно в той же степени, в какой курение может считаться явлением биологическим – ведь оно является одной из причин рака легких. Иными словами, теория шизофрении должна быть чем-то более масштабным, чем теория мозга и возникающих в нем нарушений.
Новая теория психических расстройств будет учитывать происходящее в мире, окружающем мозг. В этом нет ничего удивительного – точно таким же образом теория развития рака должна каким-то образом учитывать особенности сигаретного дыма. Однако то, что уже считается общим местом в онкологических исследованиях, в области психиатрии кажется достаточно радикальным. Пришло время расширить биологическую модель психиатрических нарушений и включить в нее контекст, в котором функционирует мозг. В процессе понимания, предотвращения и лечения психических расстройств нам стоит внимательнее присмотреться к нейронам и ДНК как больных, так и здоровых людей.
Читать дальше