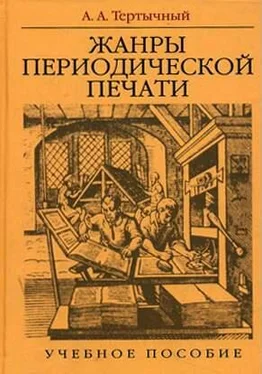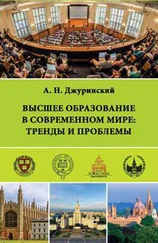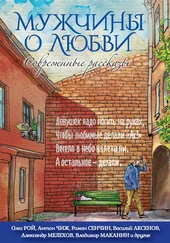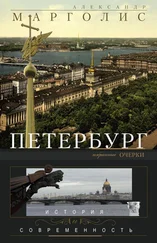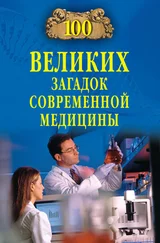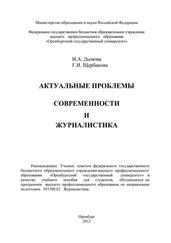«Собеседник» (№ 9) уже писал о некоторых странностях эпидемии в ростовской станице Обливская. Целый ряд признаков ее заставляет предположить, что люди могли стать жертвами не природного катаклизма, а рукотворного — отечественного биологического оружия. И хотя, если верить официальным данным, таких игрушек у нас нет, не было и быть не может, известный эколог, доктор Лев Федоров считает, что разработку и совершенствование биологического оружия наши военные не прекращали никогда.
Дальше следует основное содержание публикации:
Биологическую войну мы уже вели.
Эка невидаль! Разве этим не все занимаются, те же американцы, например?
— А я не говорю, что они этим не занимались, — вводит нас в курс дела Федоров. — Вот они поэкспериментировали-поэкспериментировали, но собственно биологическое оружие на вооружение так и не приняли, а после событий 1969-го работы у них и вовсе прекратились. Тогда в одном из исследовательских центров произошла утечка вируса, который поразил стадо овец. Возник колоссальный скандал, и программу свернули. Так что американцы и боеприпаса биологического не создали, и на поток его не поставили, не говоря уж про складирование. А мы как раз здесь и продвинулись впереди планеты всей: наладили производственные линии, выпуск и складирование боеприпасов. Проще говоря, мы не просто готовились к масштабной биологической войне, мы единственные в мире были готовы ее вести. И даже вели… Начались такие работы не позже 1926 года, когда в рамках Военно-химического управления Красной Армии появилась первая спецлаборатория. В 1936-м прошли первые войсковые учения, на которых отрабатывались тактика и методика применения нового оружия. Тогда же на вооружение нашей армии поступили и его первые образцы — возбудители чумы, сибирской язвы и туляремии (нечто вроде вирусной пневмонии). Вот последнюю-то и применили в реальном бою — 1942-м против наступавшей в тех самых ростовских степях группы войск Паулюса, Выпускать чуму и сибирскую язву не рискнули — это было форменным безумием, эпидемия запросто бы охватила обширную территорию по обе стороны линии фронта. Обошлись туляремией, хотя смертность от нее не превышает 10 процентов, но живую силу противника из строя на время она выводила. Разносчиками заразы стали грызуны.
На первых порах успех был ошеломляющим: солдаты Паулюса пачками выходили из строя, и, не дойдя до Волги, будущий фельдмаршал вынужден был сделать паузу в своем стремительном броске к Сталинграду. Но наши этим воспользоваться не сумели: болезнь перекинулась через линию фронта обратно, и теперь уже советские солдаты заполняли лазареты.
Кстати, уже в 70-е с помощью генной инженерии наши ученые сумели «воспитать» бактерию туляремии должным образом: смертность от нее достигала 100 процентов, вдобавок она успешно противостоит известным антибиотикам…
До войны центр военно-биологических разработок располагался в одном лишь Кирове, в 1946-м очередной соорудили уже в Свердловске: ныне это печальный 19-й военный городок, в колоссальных подземных штольнях которого расположили масштабные биопроизводственные цеха и линии по снаряжению боеприпасов. Еще один центр организовали в Загорске: он специализировался на вирусологии и токсинном оружии. Как считает Лев Федоров, все наши боевые геморрагические лихорадки — поиск современной военной биологии — результат работы именно этого института.
Главные события развернулись в 1972-м. Тогда СССР присоединился к конвенции о запрете на разработку, испытание и производство биологического оружия. Попутно искусственно был создан ген. И наши биологи в погонах направили в ЦК КПСС послание, суть которого: если генетику применить к военной микробиологии, то получится мощнейшее оружие, которое нашим вероятным противникам и не снилось.
Белок воздействовал на мозг противника.
Тем временем в Ленинграде занимались белками, пептидами: считалось, что с их помощью можно управлять психикой человека. Собственно, это и было главной целью исследований: добиться, чтобы любые бактерии — сибирской язвы или чумы — в процессе своей жизнедеятельности выделяли белок, который мог бы воздействовать на мозг солдат противника. Получался как бы двойной удар: ты поставляешь противнику смертоносную бактерию, которая к тому же может выделить, скажем, токсин ботулизма или яд кобры, да любые другие яды, воздействующие на иммунитет людей.
Тогда же всерьез занялись и заводами по производству биооружия: действующими и мобилизационными. Один построили в Кировской области — в Омутнинске, завод биопрепаратов. Там, кстати, велись очень интересные работы над бактериями, которые не людей из строя выводили, а могли «жрать» технику или топливо противника. Запускаешь такую штуку, и она съедает, скажем, изоляцию, происходит замыкание и вся аппаратура выходит из строя.
Читать дальше