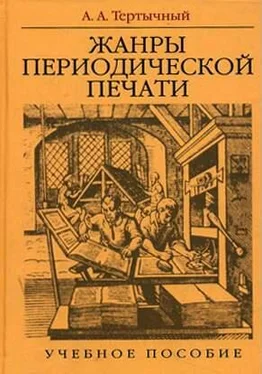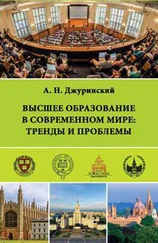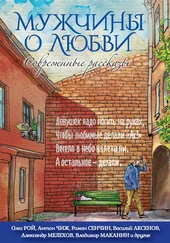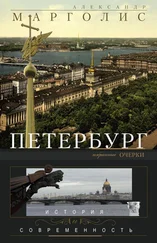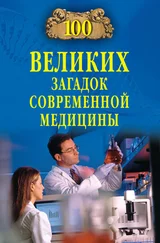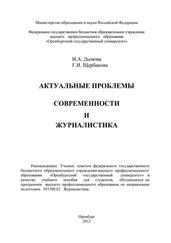Вероятно, дело в том, что это означает реальное обесценение инвестиций в человеческий капитал, который они делали в течение всей жизни, получая образование, защищая диссертации, публикуя статьи и книги и т. д. Обмен утраты долгосрочных инвестиций на повышение текущих доходов является для многих из них неприемлемым. Поэтому они остаются на прежних рабочих местах государственного найма, несмотря на то, что эти рабочие места не обеспечивают более ни привычных текущих доходов, ни социального статуса и престижа, ни даже собственно творческой работы — во многих случаях бюджетного финансирования науки и культуры хватает лишь на выплату минимальных заработных плат, но не на оборотные (не говоря уже об основных) средства, необходимые для запуска научных экспериментов, производства фильмов и пр. В этом случае зарплата становится формой социального вспомоществования, вызывающей отнюдь не чувство благодарности, а презрение к себе и ненависть к дающему, рука которого столь явно оскудевает.
Не надо забывать, что при социализме человеческий капитал использовался в значительной мере не производительно, а только для получения дохода в качестве ренты. Многие работники науки, культуры, образования (особенно женщины) фактически лишь числились на своих рабочих местах, пили чай, беседовали, но никаких реальных интеллектуальных услуг не оказывали. Они просто получали ренту от предшествующих капиталовложений в свой человеческий капитал (грубо говоря, если я закончил институт и прочитал несколько книжек, то уже за это мне должны платить). В известном смысле нынешняя зарплата-пособие аналогична прежней зарплате-ренте. Отличие состоит в том, что раньше вы могли выбирать: хотите — получаете ренту, а хотите — плату за действительный интеллектуальный труд, а теперь выбора нет; во-вторых, зарплата-рента обеспечивала пристойный уровень жизни, а зарплата-пособие — нет.
С другой стороны, предпринимательство в сфере интеллектуальных услуг в значительной мере теряет свой специфический предмет и остается интеллектуальным лишь по вывеске: частные учебные заведения оказываются фабриками по производству сомнительных дипломов, театральная антреприза оказывается стриптиз-баром, а ежедневная газета — тупым орудием лоботомии и имплантирования предмета интереса своего патрона. Этой деградации способствуют и особенности российского законодательства, в частности ограничения на приватизацию производства сферы интеллектуальных услуг, которые заставляют устраивать частные предприятия внутри тела государственных учреждений, становящихся объектами высокодоходного паразитирования. Интеллектуальная услуга дуализируется: то, что остается интеллектуальным, не является услугой (в том смысле, в котором услуга оказывается в рыночном обществе), то, что является услугой, ориентируется на платежный спрос, перестает быть интеллектуальным.
Обесценивание любого капитала, деградация и пересоциализация присущи всякому кризису. Когда они происходят в сфере интеллектуального капитала, они просто виднее и слышнее. В базовом случае обычного экономического кризиса страдающей стороной является молчащий класс (преимущественно мелкое и среднее предпринимательство), в случае кризиса интеллектуального капитала страдает говорящий класс. Поэтому так слышны отзвуки его стенаний в политическом процессе.
Кстати, именно обесценивание человеческого капитала в ходе системной трансформации вкупе со снижением платежеспособного спроса (только тогда это был реальный спрос предприятий и домашних хозяйств) стало трудной причиной вхождения интеллигенции в социализм, несмотря на то, что идеологически русская интеллигенция в большинстве своем была левой (так же как и в начале нынешней реформации была или скорее числила себя правой).
Что же? Нынешнее поколение русской интеллигенции так и будет жить при социализме? На это определенного ответа нет. А вот последующее поколение, похоже, откроет для себя капиталистический материк. Опять-таки, подобно тому, как в период социалистической трансформации решением проблемы стало создание «новой» пролетарской интеллигенции, так же и сейчас происходит становление новой буржуазной интеллигенции. Следует отметить, что уже идущая смена поколений явственно меняет систему приоритетов и оценок рисков при инвестициях в человеческий капитал. Инвестиционная активность здесь явно нарастает — увеличиваются конкурсы в высшие учебные заведения, стремительно растет спрос на услуги тех, кто может осуществить эти инвестиции в наиболее эффективной форме.
Читать дальше